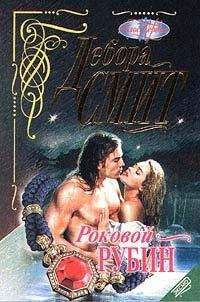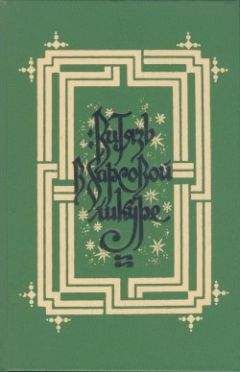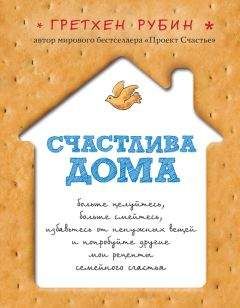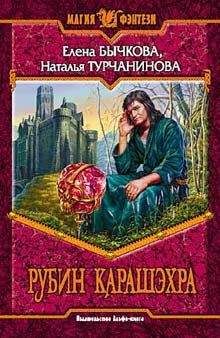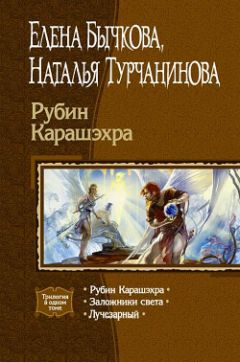Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
— Он скрытный. Я его не всегда понимаю.
— А ты не скрытный, и всегда себя понимаешь? Вот сейчас хотя бы.
Молчит, думает. И я задумался, и вспомнил.
Однажды, узнав, что я затеваю у себя ремонт, Никита предложил свои услуги. «Я на это дело мастак», — сказал он.
Никита и вправду взялся за ремонт как заправский мастер. Он, кажется, умел делать все — в деревне он даже помогал плотникам рубить избы, сам покрывал дранкой крышу своего дома, сам все белил, красил у себя, и в моей комнатке он навел порядок в два счета.
Было время арбузов, и в конце работы перед Никитой и мной на полу лежали два кавуна — сочных, потрескивающих под ножом, с черными спелыми косточками. Сладкую мякоть мы заедали черным круглым хлебом. Для тех, кто любит такую еду, — вкуснотища непередаваемая.
В комнате, кроме книг, сложенных в углу, да матраца на самодельных ножках, да журнального столика, да старого проигрывателя с несколькими пластинками, ничего пока не было.
— Хорошо у вас, просторно, — сказал Никита, оглядывая комнату и уплетая очередной кусок арбуза. — Наживете еще себе всякую мебель, — солидно пообещал он.
Глаза у него были веселые, он и работал азартно, и ел, шумно втягивая сок кавуна.
— У вас проигрыватель работает? — спросил он.
— Вроде работает. Надо попробовать. Только вот пластинок маловато. Зато есть хорошие — итальянская эстрада, кое-что из серии «Вокруг света». Есть и серьезная музыка. Бетховен, например.
— Поставьте, пожалуйста, Бетховена. Я его никогда не слышал.
— Вот «Аппассионата», играет Мария Гринберг.
С каким-то ворчанием, громким шелестом начал вращаться диск проигрывателя. Никита присел на корточки рядом с приемником, положил в свои широченные ладони кудлатую голову и притих. И так, не меняя позы, просидел он, пока не проиграла одна сторона пластинки.
— Будешь слушать дальше?
Никита кивнул и опустился на пол, вытянув ноги. «Неужели так сразу он воспринял то, что многим дается с трудом? — подумал тогда я. — Этот парень вообще все принимает или не принимает сразу, и не поверить ему нельзя. Это не нарочно он не смотрит на меня, склонив голову. Так, наверно, он вслушивается в лесу в голос кукушки, так сосредоточенно пишет стихи, так отдается любому своему делу, глубоко и всерьез».
О чем думал тогда Никита, усевшись на полу: вспоминал деревню, дом, мать, отца? Или, быть может, мысли его были о городе, где все дается с напряжением, с непредвиденной борьбой? Или оказался он погруженным в свою думу, как в сон, в котором правда и явь, прошлое и настоящее, нежное, розовое и кошмарное вперемешку? Может, и теперь он думает о том же?
— Ты хотел победить, Никита. А теперь бежишь. Значит, струсил? В деревне, наверное, был первым.
— Я не трус. В деревне труднее. Оттуда бегут, а я возвращаюсь.
— Всюду нелегко. И это совсем другой вопрос. Если бы ты поехал туда не сейчас, а после училища, как специалист, тебя бы, может, с почетом направили в деревню. А пока ты еще ни то ни се, ни два ни полтора. Подмастерье. Тебя и в деревне жизнь прижмет — куда ты побежишь? На край света? Заморочил ты себе голову, и не ожидал я, что ты окажешься слабаком.
Завело меня, заело, и, понимая, что, может быть, говорю слишком круто, не мог не сказать я всего, что прорвалось. Всем нутром я чувствовал опасность, беду, в которую, как в омут, бросился мой ученик. В чем тут дело? Какая причина? Я понимал, тут могут быть самые сложные внутренние причины, целое переплетение их. Они сосредоточились, наверное, как и во мне, ощущением неблагополучия самой главной — душевной жизни. Я принял решение уйти из училища. Вот и он тоже.
Я невольно сменил тон, стал говорить тихо, мягко, будто сам с собою:
— Никита, я понимаю, силой тебя все равно не удержать. Поступай, как решишь сам. Будем считать, что мы с тобой не виделись. Но я хочу, чтобы ты знал: мне жаль расставаться с тобой. Последнее время я много думал о тебе, вспоминал, ты был мне нужен. И я чувствовал свою вину перед тобой. Устрой я вовремя тебя в общежитие — и, может, все получилось бы по-другому.
— Что вы, Леонид Михайлович, не в этом дело. В общежитии было бы мне так же худо, как и у сестры. — Никита впервые за время нашего разговора посмотрел в ту сторону, где все еще прогуливалась по набережной девушка в ярком плаще.
— Это младшая моя сестренка, приехала из поселка на два дня. Она еще учится.
— Все ясно. С ней, значит, и надумал. С чего хоть начинать там собираешься?
— Устроюсь, наверно, трактористом, буду сеять кукурузу, которая у нас не растет, — с усмешкой сказал Никита, отвернувшись от меня. А потом вдруг заговорил горячо: — Да не в том дело, Леонид Михайлович. И не с ней я вовсе надумал. Сестра завидует, что я в таком городе. Я все сам решил. Я становлюсь скептиком, циником. B одно не верю, другое высмеиваю, про третье рассказываю анекдот. Про все, про все на свете я могу теперь сказать что-нибудь такое... или что-нибудь сделать. Все во мне вдруг обрушилось. Полный завал. И не знаю, что делать, Леонид Михайлович...
Он спрашивает, а я тоже ничего не знаю. Раньше стал бы объяснять красноречиво, а теперь... у самого все рушится, во всем завал. Сразу в этом деле ничего не поправишь, из этой болезни люди выбираются медленно. А выбираться надо непременно. В беде Никиты есть и моя вина, я должен что-то исправить. Но Никита, кажется, твердо решил отправиться в деревню. А как бы здесь он был нужен мне, всей группе, всем в училище, и даже всем в городе, потому что именно такие вот честные, мучающиеся, совестливые люди и создают душу города. Никита вот не прижился, а такие, как Лобов, приживаются с первого дня. Нет, просто невозможно отпустить Никиту. Теперь и там ему будет тяжело. Он хоть еще и не горожанин, но уже и не деревенский. Время, нужно нам время обоим, чтобы помочь друг другу вылечиться, исправить что-то, посидеть на каком-нибудь пенечке в лесу... и все прояснить. А впрочем, ничто не проясняется раз и навсегда, и три сосны, для того, чтобы заблудиться, можно найти даже вон тут — на Невском.
Никуда только не нужно уходить от самого себя. А спокойны да блаженны, наверно, лишь полные дураки или боги на Олимпе. А вот этот мой ученик — просто человек. Молодой человек. Даже очень еще молодой, с тонкой, детской кожей на щеках. Это он с виду такой большой, основательный, уверенный в себе. В глазах его и растерянность, и обида, и желание оправдаться, и боль. И вдруг они стали влажными, его синие глаза. Большим своим кулачищем Никита быстро смахнул слезу.
— Да ты что?! Ну пожалуйста, перестань. А то я сам заплачу. Два мужика разревелись посреди улицы. Люди со смеху умрут. Все теперь не так страшно. Успокойся. Скоро опять пойдем на завод, а потом квалификационный экзамен и выпуск — все наладится. А в деревню поедешь на каникулы.
Я обнял Никиту за плечи, едва обхватив рукой широкую, сильную спину. Он всхлипнул пару раз и затих.
— Иди к сестре, а то забыли мы о ней, нехорошо. Давай руку, до завтра, Никита.
Плотно соединились наши ладони. Никита долго смотрел мне в глаза, медленно и основательно пожал руку, но не произнес ни слова. А потом взял свой тяжеленный чемодан, зашагал к мостику с четырьмя старинными фонарями, позвал сестру и вместе с ней направился к Невскому, к его суматохе. «Неужели уедет? — думал я, и сердце сжималось. — Неужели все-таки уедет?»
Глава третья
Никита ушел к Невскому, а я зашагал в другую сторону, к Марсову полю, к Неве, к простору. Когда оказался рядом с Кировским мостом, я увидел то, что ожидал увидеть: и просторное небо, и вечернюю зарю, — но мне захотелось домой, в маленькую мою комнатку, просто посидеть в ней, помолчать или послушать Бетховена, пластинку, которую слушал Никита, или поговорить с Кузьмой Георгиевичем. Пешком возвращаться было неохота. Сел в трамвай.
Оказывается, надежнее всего добираться куда надо на этом городском ишачке. Везет себе и везет, и места много, не толкаются.
Нет, на этот раз толкаются. Особенно на площадке. Что это они там так тискают друг друга? Пэтэушники! Всюду наши ученики, по всему городу. Ах, вот в чем дело! Контролер! Женщина держит кого-то за руку.
Раздражают меня трамвайные контролеры. Ненавижу их надменную уверенность в своей правоте. Понимаю, что нельзя обманывать, даже в мелочах, и все-таки не нужно так «раздевать» при всех человека, как это делают многие крикливые женщины, проверяющие билетики, будто совесть и честь стоит всего лишь три копейки. Вон она держит за рукав и дергает кого-то. Это Лобов! Вот кого она держит. Мой Лобешник попался в трамвае! Это он может, это у него запросто.
— Отпустите его, пожалуйста!
— Еще чего! Защитник нашелся. Кого защищаешь? Эти нахалы совсем обнаглеют. А у тебя у самого-то билет есть?
— А с чего это вы со мной на «ты»? Мы что, друзья?
Не ожидала тетка такого поворота дела. Замолчала. Смотрит на мой билет. Собирается с мыслями и подыскивает слова — как бы поэффектнее и позлее мне ответить. А Лобов таращится на меня, красный, потный, ошалелый. Больное ухо стало малиновым.