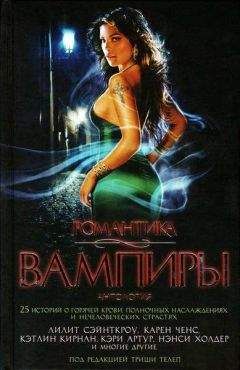Любовь и смерть. Русская готическая проза - Гоголь Николай Васильевич
Неужели любовь оканчивается органическою жизнью?.. Неужели благодатный Создатель отказал в этой единственной сладости существования неподвижным телам? Неужели дерево во время цвета или камень в минуту превращения своего в кристалл не ощущает действия волшебной теплоты, которая привела его в брожение и возбудила в нем жизнь? Неужели его частицы не дрожат тогда ее роскошью? Неужели что-либо может создаться в природе без этого небесного отголоска воли Творца в членах создающегося тела? Неужели любовь не есть общая сила материи?.. Войдите в пальмовую рощу: эти деревья стоят на весьма низкой ступени органической жизни – еще один шаг, и вы очутитесь в неорганическом царстве. Но взгляните на эту наклоненную пальму, тощую, бледную, почти безжизненную!.. Подле нее, в нескольких шагах, стоит величественная пальма-самец с богатым венцом длинных и здоровых листьев; под венцом висят, подобно молочным сосцам лани, огромные кисти цветов, покрытых белою как снег пылью; но бледная, тощая пальма отворачивается от своего соседа: она наклонилась к другому дереву-самцу, красующемуся в отдаленном углу рощи, и никакая сила не может дать ей другого направления. «Она больна! – говорит вам смуглый аравитянин, вздыхая, – она больна любовью!» Уже три года сряду не посылает она ему фиников; тщетно всякую весну переносит он на ее цветы снежную пыль кистей ее соседа: она не дает плодов и сохнет. И – несчастная страдалица! – она не порадует его сбором, пока он не отыщет ее любезного и не принесет ей плодотворной пыли с его кистей: тогда она зазеленеет и будет весела по-прежнему. Нет! не здесь предел этой могущественной силе! Она еще так мощно действует в неподвижном дереве – она должна простираться еще далее, проникать и до холодной, неподвижной материи минерала, согревать самое ядро планеты. Назовите ее силою притяжения, силою сцепления, какою угодно силою – все это одна и та же сила, сила всемирной любви, являющаяся нашему уму в виде трех различных понятий: жизни органической, неорганической и времени. Любовь – я в том уверен! – любовь не оканчивается с нашею жизнью: она еще рдеет в нашем теле и в гробу; она, вероятно, еще приводит в сладостное дрожание всякую отдельную пылинку нашей персти, ежели при жизни мы чувствовали ее сильно, истинно, беспредельно… Эта мысль не может расстаться со мною: она слита с моим существованием.
Эта мысль лежит на моем сердце, как камень: я умру с нею, и желал бы, чтоб она выросла цветком на моей могиле!..
Да, моя несчастная Зенеида! я верю в любовь после смерти: ты убедила меня в этой священной для моего сердца истине. Я бы сейчас умер, или еще хуже – я бы сошел с ума, если б потерял эту веру.
Ты давно уже не существуешь, давно уже земля держит в ледовитых своих объятиях то прекрасное тело, которое никогда не долженствовало б выходить из моих; но ты еще меня любишь, Зенеида?.. Не правда ли?.. ты меня любишь в твоей могиле?..
Явись, мой друг, моим взорам! Если ты теперь стоишь в этом столбе мрака, если твоя робкая тень прячется в этом черном воздухе, который теперь так страшно скопился в углу комнаты, – выйди оттуда, Зенеида, и присядь здесь – здесь, на моих коленях! Зенеида!.. Ты, верно, меня слышишь!.. Зенеида! ты должна быть где-нибудь близ меня!.. Покажись! Я теперь тебя не испугаюсь.
Она теперь не хочет предстать передо мной!.. Но я чувствую ее присутствие; она непременно должна быть теперь в этой комнате…
Она бросила в юную душу мою свой волшебный образ и поспешно ушла с этого света, для того чтоб я никогда не мог отдать ей обратно бесценного ее подарка!.. Она исчезла, как падающая звезда, нарисовав по всему небу моего воображения длинную огненную черту, которая никогда не исчезнет. Как тень высокой горы, увеличивающаяся по мере склонения солнца к закату, так во мне продолжается воспоминание об ней, расстилая бесконечную черную полосу сквозь всю длину моей жизни. Этим воспоминанием оканчиваются все мои мысли…
Я люблю воспоминать о подробностях моего с нею знакомства. Всякий вечер я об них воспоминаю, и на следующий день они опять кажутся мне новыми.
Где та красивая дача в девяти верстах от Петербурга, на которой я впервые сквозь зыблющуюся сетку листьев аллеи увидел два волшебных голубых глаза, мерцающих блеском утренней росы? Эта дача уже не существует; эта аллея уже истреблена; но я и теперь вижу те же листья, то же дрожание листьев – мог бы и теперь верно нарисовать положение всякого листочка в той зеленой движущейся путанице, сквозь которую в первый раз блеснули передо мною эти глаза, отрываясь от зеленой книги, медленно направляясь в ту сторону, где я давно уже стоял за кустом акации – откуда с лишком полчаса смотрел на нее украдкою, подстрекаемый детским любопытством подсмотреть лицо читающей дамы. На этих глазах волновались две крупные слезы: одна из них упала на книгу – в ней заключалась судьба целой моей жизни!..
То была слеза огорчения, а не удовольствия: я прочитал это в лице Зенеиды, которое было молодо и очаровательно.
О, если б мог я тогда испить эту слезу!..
Мы были соседи по даче. Я успел познакомиться с нею. Сколько хитростей употребил я, чтоб достигнуть этого счастья! Сколько бессонных, мучительных ночей провел я с тех пор, как достиг его!..
Зенеида была замужняя: это ужасное для меня обстоятельство узнал я только при первом с нею разговоре. Мои надежды – мои милые, сладкие, блистательные надежды – были разражены этим известием как громом. Я побледнел, и она это приметила. Впоследствии она часто напоминала мне об этом – и потом, обернувшись, вздыхала. Я не смел даже спросить, о чем она вздыхает: ее глаза, волшебные голубые глаза, для которых я бросился бы в огонь и в воду, положительно запрещали мне быть любопытным.
Я скоро проник в тайну ее души, хотя она старалась скрыть ее от меня: она была несчастна. Муж ее, ужасный муж, был один из тех диких мужчин, пойманных в лесах Канады [170] и приодетых в европейское платье, которых какая-то зловредная рука беспрестанно впускает в нашу образованность, чтоб они свирепствовали в ней, как на поле сражения, устланном трупами враждебного поколения. О, сколько я знаю таких диких людей! Они рождены и воспитаны посреди самых утонченных форм общества и остались дикими. Смело и безнаказанно производят они неслыханные опустошения в нашем нравственном мире, позволяя себе делать всякие неистовства ввиду наших сентиментальных романов и нравоучений, и мы, вместо того чтоб прогнать их за Аллеганские горы, еще нередко удивляемся их молодечеству. Раздавить благородное чувство и осквернить его своим хохотом – для них величайшее удовольствие, торжество. Поймать белую и слабую европейку хитростью, исторгнуть сердце из ее груди, и потом выжимать из него кровь, и терзать его зубами, и бить ее по лицу собственным ее сердцем с насмешками палача XVI века – для них дело такое же естественное, как для патагонца пить вино из вражьего черепа. Повергнуть в последнее рабство, в самое унизительное и жестокое рабство, завоеванную приверженность есть, по их мнению, доказательство доблести. Муж Зенеиды был один из тех дикарей. Он был красавец собою, отлично-хорошо воспитан, мил в обществе и с большими дарованиями, горд и честолюбив до крайности. Он некогда тронул ее молодое сердце; быть может, и сам в нее был влюблен – не любить ее было невозможно! Чтоб получить ее руку, он припадал к ее ногам, к ногам ее родителей, даже к ногам последней служанки в доме: отец ее считался тогда богатым и значительным человеком. Но скоро после свадьбы несчастья лишили отца ее всего состояния и знатности. Обманутый в своих расчетах на огромное приданое и протекцию, супруг превратился в мстителя за свою обиду. Он начал гнать дочь за несчастье родителей, и она претерпела от него все роды домашней тирании. Он, однако ж, скоро возвысился посредством собственных своих дарований; но и тогда не простил несчастной за то, что союз с нею был ему бесполезен. Он презрел ее любовь, стал насмехаться над ее нежностью и находил удовольствие унижать ее в глазах других и ее пол в собственных ее глазах; он поносил перед нею супружество и его обязанности и бесчеловечно издевался над ее скорбью. На устах его для всех была улыбка; для нее были только упрек и горечь. Всякий ее поступок, всякое не нравившееся ему слово становились уголовными преступлениями, которые следовало выкупать мольбою, рыданием, отчаянием. Вся тяжесть обязанностей была свалена на слабые ее плеча: он не почитал себя ни к чему обязанным. И с какою ангельскою кротостью, с какою покорностью, достойною только персидской рабыни, – с какою добродетельною улыбкою несла она это ужасное бремя! Она никогда не жаловалась на свое положение даже перед сестрою, которую любила, как только можно любить друга в несчастии.