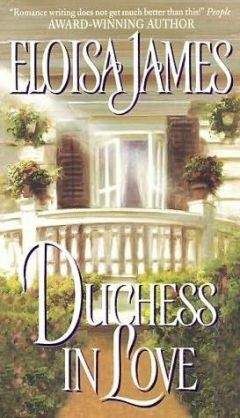Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
— Да что вы, Озен Очирович! Я уж не знаю, как и сказать, чтобы убедить вас в обратном. Ну что тут мои слова? Слова — ничего-о! Слова не убавят, не прибавят.
— Ладно, не горячись. Выходит, что... уволить я тебя обязан. Сам понимаешь. Уволить с должности старшего прораба. Если твердо надумал отказаться от бригады, то посиди пока дома. Отдохни, как говорят, душой и телом. Какие новости будут — дам знать. Вот так, Григорий Алексеич.
Григорий нехотя положил телеграмму на стол управляющего и вышел.
Глава двадцать первая
Ьсли у тебя размеренная и устоявшаяся жизнь, если ты привык в одно и то же время вставать, уходить на работу, обедать, возвращаться домой, отдыхать, ложиться спать, привык общаться примерно с одним и тем же кругом лиц, окружающих тебя на работе и дома, наблюдать сутолоку на одних и тех же улицах, площадях, в магазинах, тогда и время для тебя как бы приспосабливается, становится не очень заметным, не очень навязчивым, порой ты его не замечаешь, а если и замечаешь, то только лишь для того, чтобы воскликнуть: ба, еще один день прошел! Как летит время1 После такого восклицания, в котором трудно сказать, чего больше— удовлетворения, сожаления или удивления — ты опять надолго забываешь о времени.
Тысячи, многие тысячи дней ушли и что осталось от них у тебя? От всей массы времени — много, что осталось, а что ты помнишь о таком-то месяце, о такой-то неделе, о таком-то дне? Ровно ничего. Все слилось, все притерлось одно к другому.
Но вот тебя вырвали, выбито из ритма привычной тебе жизни. Все поменялось местами, смешалось... Что-то ушло, на смену ему что-то пришло. Хочешь или не хочешь, тебе надо привыкать к новому порядку. И ты привыкаешь. Как можешь, как умеешь.
Странно тогда ведет себя время. Оно уже не приспосабливается к тебе, не-ет, оно вдруг как бы сваливается на тебя из своего бытия и уж после ты не жди от него покоя.
И тот месяц, когда время не приспосабливалось к тебе, входит в твою память, как входит в землю фундамент, чтобы держать на себе что-то. И после того месяца тебе кажется, чго ты прожил не месяц, а значительно дольше.
Подобное состояние испытывал Трубин, оказавшись не у дел Всего лишь несколько дней отделяли его от прежней размеренной, устоявшейся жизни, а ему представлялось, что на стройке все уже переменилось, и Бабий уже не тот Бабий, и Колька Вылков не такой, и Шайдарон не похож на обычного Озена Очировича. Несколько дней выросли в длинную цепочку... Трубину думалось, что все забыли о нем и никто никогда не вспомнит. Ну, а если даже кто и вспомнит, так только для того, чтобы сказать: вот-де, мол, был такой, а сняли и можно теперь без него.
Он внушал себе, что все это не так, что на стройке не могло за это небольшое время произойти чего-либо существенного, а тем более с Бабием или Вылковым. И, конечно, никто его не забыл.
Трубин хотел не думать о времени, но время стояло на своем. Время заставило его вспомнить старый студенческий прием на случай разных невзгод и трудностей. Этот прием назывался «неотвратное самопринуждение». Он применялся чаще всего тогда, когда надо было прожить до стипендии столько-то дней и каждый день расходовать не больше того, что задумано при наложении на себя «неотвратного самопринуждения», или когда надо было прожить до экзаменов столько-то дней и каждый день усваивать из пройденной программы не меньше того, что нужно было. Но если в институте он знал, на чем, собственно, держалось «неотвратное самопринуждение», то сейчас не знал. Принуждать себя — к чему? К тому, чтобы не думать о времени? Не думать о времени — это не думать о снятии с работы, не думать о бетонировании, о Чимите, ее профессоре. Все это свыше сил, и никто и ничто тут не помогут.
Ну, а что же Софья? Как она?
Софья пока принимала удары судьбы, как должное. «Пришла беда — отворяй ворота». Она снова заговорила о том, что ей надоели белые и синие бланки отчетности, что осточертело ездить в банк и выколачивать там кредиты, что с представителями субподрядчиков постоянно ругань...
— Но где такое дело, чтобы всюду тишь, гладь да божья благодать?— возразила ей мать.— Что подумают о тебе в тресте?
— Ах мне все равно!— отмахнулась Софья. — Пусть думают, что им угодно.
— Я не хочу, чтобы над тобой злословили по всему городу.
— И так злословят предостаточно.
О чем дальше спорить? Не о чем. Они надолго умолкали.
Фаина Ивановна как-то незаметно изменилась. Все чаще слышалось из кухни ее недовольное бормотание, понятное ей одной. Все чаще она покрикивала на дочь: то не так прибралась в комнате, то не так белье погладила.
— Как жить-то без меня станешь?— без конца спрашивала она Софью. — И дня не проживешь.
Заявился сотрудник уголовного розыска.
— Отыскался похититель часиков,— сообщил он Трубину.
Григорий промолчал: «Кого это они отыскали? Неужели Чепезу-
бова?»
— И представьте, грабитель из вашего строительного треста. Мало того, ваш знакомый. — Товарищ из угрозыска держался несколько свысока: мы, мол, знаем, нам все ведомо, не то, что вам, простым смертным. — Фамилия грабителя Чепезубов. Знаете такого?
— Знаю.
— Не можете не знать. Сами оформляли в кадры.
— Оформлял.
— Вы что-то не очень довольны исходом дела?
— Объяснять долго. А коротко — посторонние не поймут.
— Ну-ну. Между прочим, преступник самолично явился с повинной в милицию. Это ему несомненно зачтется.
— Са-ам?— переспросил Трубин. — Как это сам?
— Очень даже просто. Такие случаи бывают. Погуляет на воле иной уркаган и «завяжет». Это означает — бросает воровать. Бросает по многим обстоятельствам: кому тюрьма не понравилась, у кого совесть заговорила, кто видит, что у него перспективы нет. Ну вот, «завяжет» уркаган, а на него когда-то было «дело» заведено: у нас или в колонии, или еще где. За то «дело» ему грозит кое-что. Но он все равно идет в милицию, сдается на милость и рассказывает о своем «деле», надеясь на снисхождение. И ясно, этого добивается. Ни вот... должен вас огорчить... часики-то пока не нашлись, преступник успел их продать, кому — не знает или не хочет сказать. Оцените их стоимость. Это для приобщения в суд.
— Не представляю, какая им цена.
— Примерно. Это ж не для комиссионного магазина.
— Ну, если вам обязательно надо... Они стоят литр водки. Не больше, не меньше. Чепезубов получил за часы литр водки.
— Вам даже это известно? Странно... Каким образом?
— Случайно встретился с его покупателем. И хочу вас заверить, что мы поладили с ним, никаких недоразумений между нами нет.
— Придется дать знать по начальству, и если что — вызвать повесткой.
— Как вам угодно.
«Время будто бы остановилось для меня, а ведь этого нельзя допускать.— думал Трубин после ухода сотрудника милиции. —Нельзя. Время все-таки движется!»
Было это или не было? Полчаса назад...
На столе недопитые водка, пиво, стаканы, рюмки. И ничего из закусок. «У меня нечего подать на стол. Хожу по столовым,— оправдывался Трубин. — В магазин то некогда, то забываю».
«Нечего — так нечего»,— сказали ему.
Неудобно, неловко чувствовал он себя. Оправдывался несвязно, неубедительно. А для человека, может быть, в жизни самое тяжелое — оправдываться.
Бабий посмеивался:
— Григорий Алексеич, да брось ты с этой закуской! Что мы, жрать сюда пришли? Водку запьем пивом. Колька!— Это он Вылко- ву. — Ты чего мало взял пива?
— Да у меня язва.
— Желудка?! Неужели? Вот бедища!
— Да не-ет, не желудка. Язва кармана!
Они вот все время шутили и ему посмеяться бы вместе с ними, но за стеной неслышно сидели Софья и Фаина Ивановна, от них тянуло на него отчужденностью — смех в горле застревал.
В главном корпусе ничего особенно не случилось. Забывать Трубина никто не собирался. И у него отлагло на душе, посветлело.
Лишь однажды задело за живое. Бабий сказал, что они бетонируют с прогревом плиты. Он знал, что с прогревом... Но пока об этом молчали — это одно, а когда проговорились,— это уже другое. Они поняли, что ему неприятно, и заговорили о Ленчике Чепезубове.
— Я с ним объяснился, Григорий Алексеич,— сказал Вылков.— Объяснился железно! «Можешь ли ты жить на белом свете после этого?» Ну он, должен вам передать, он, как узнал чьи часы, Григорий Алексеич, так глаза потерял. «Врешь,— говорит,— брешешь!»— «Ты бы,— говорю,— брехал, а не я. Иди и спроси у Трубина»—«А он что — знает?» — Это Ленчик у меня спрашивает. «Как же ему не знать, когда он сам про тебя и подумал».
— Колония ему, что дом родной,— вставил Федька Сурай.
«И этот пришел сюда»,— подумал Трубин.
— Тебя бы туда,— сказал Вылков.
— За что?
— До чужого тоже охоч.
— Я не ворую. Два-три гвоздя, если возьму когда. Разве в том воровство? Я и использую гвозди аккуратно: ни один не согну, не выброшу. Не то, что ты.
Трубин спросил: