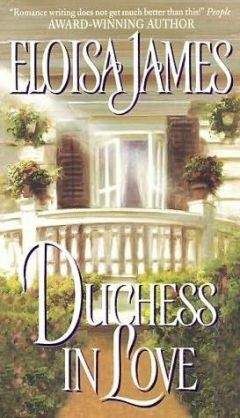Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
— Пошто лезешь в чужи дела?
— А ты сам?
— Эва, сказанул! «Сам!» Я ей сродственник, она из родного дома убегла. А ты тут, что за шишка на ровном месте? Вот позову милицию...
— Зови, зови. Она тебе покажет, как паспорта жечь. Милиция спасибо не скажет за это самое...
— Врешь, шпаненок! Не было такого!
— Не было?— сощурился Колька. — Ах, ты ничего не жег? Может, ты тот паспорт передал кому? За это самое, знаешь что?
Колька косил глазами по сторонам: «Черт с ним, надо уходить... А где Райка?» Он счастливо заулыбался, увидев, как к ним торопились, скользя по тротуару, Ленчик Чепезубов, Федька Сурай и Мих. Райкин отчим на глазах у Кольки превращался в миленького безобидного старичка.
— Гражданин, что вам угодно?— спросил строго Мих.
Но тому уже — «ничего не угодно».
А Ленчику этого мало:
— Папаша, продай бородку на щетку!
— Но-но! Вот я вас!..
Это была последняя слабая угроза.
— Папаша, вы что — заколдованный? Вы почему один на пятерых лезете?— сыпал вопросами Чепезубов, рассчитывая на что-то интересное.
Мих пытался навести некий порядок.
— Давайте разберемся,— просил он. — Перед нами отсталый элемент. Отчим Раи Шигаевой. Нам известно, что он гнусно принуждал ее к замужеству, а когда она решительно встала за свою свободу и честь, лишил ее документов. Состав преступления установлен. Что с ним делать?
Отчим, напуганный Михом, робко предложил:
— Вы того-самого... шли бы сами по себе.
Мих поднял руку, заговорил торжественно:
— Не очень умный человек высказал в общем-то дельную мысль.
— Ты это что?—уставился на него отчим.
— Давай, папаша, давай!—подталкивал его Чепезубов.—Освободи тротуар. Считай, что тебе повезло.
Первая драка в жизни за правое дело окончилась для Кольки Вылкова вполне благополучно.
У Вылкова дня не бывало без историй. Вот и сегодня. Шел с Райкой по улице. Навстречу молодая женщина с карапузом, одетым в капюшон. Колька возьми да и поздоровайся с женщиной, а сам видел ее впервые. Та ему ответила: «Вы ошиблись адресом, молодой человек». Колька захохотал, а мальчишка как закричит на всю улицу: «Папа! Папа!» Мать схватила его за руку, потащила за собой, а «капюшон» орет Вылкову: «Папа! Папочка!»
Райка отругала Вылкова за «легкомысленное поведение», и тот всю дорогу до общежития отмалчивался, вроде бы обиделся. Но в Колькиной душе бродили иные чувства. Далекие от обиды.
— Слушай,— сказал он Шигаевой, когда они дошли до общежития,—выходи за меня замуж.
Райка сняла варежку, приложила ладонь к его лбу.
— Температура вроде бы нормальная.
— А что? Не нравлюсь я тебе, да?— насупился Вылков. —Думаешь, не смогу прокормить семью? Меня Бабий верхолазом берет. Заработки там — во!
— «Заработки»... Какой ты муж? Одна смехота.
— А чего — смехота? Ростом мал. да? Ты скажи. Этот мальчишка-то сразу закричал мне... Дело не в росте.
Райка рассмеялась:
— Вот ты, Колька, и иди к той женщине, сватайся. А я о замужестве не думаю. Мне учиться надо. С будущей осени пойду в вечернюю школу. И тебе бы надо, Колька. Давай вместе учиться?
Колька почесал в затылке:
— Безнадежное дело.
— Почему?
— Я уж трижды принимался восьмой заканчивать в вечерке. Зиму еще ничего, учился, а как до марта дойдет, то нет никакой моей мочи ходить в школу и слушать учителей.
— Чего же это с тобой происходит в марте?
— А я спать начинаю сильно хотеть. С работы приду и спать. До утра безо всяких снов. Меня мать будит-будит, а потом надоест— махнет рукой.
— Не-ет, ты как хочешь, Колька, а я буду инженером. А то всю жизнь такие, как ты, будете надо мной смеяться. Помнишь, как тогда: «Бросишь в бетон полтинник»?... Я чуть без обеда не осталась. Да и вообще... Без образования — какое ж это дело? Вот так-то, Коленька,— новая копеечка!
Вылков достал папиросу, закурил и неожиданно пустил дым ей в лицо.
— Про учебу — это ты, как хочешь, а про женитьбу — это я пошутил,— сказал он и сбежал с крыльца.
— Жених несчастный!— кричала ему вслед Райка. —Придешь еще ко мне!..
Глава двадцатая
Истек срок, который дала комиссия Шайдарону и Каширихину. Ничего не изменилось. От Чимиты по- прежнему не было никаких вестей. Акт комиссии, отпечатанный на меловом листе, лег на стол Шай- дарона. Положение обострялось.
...Шайдарон, Каширихин и Трубин были неожиданно для них вызваны на заседание главка, где им предложили сообщить о ходе работ в главном корпусе.
Пока Озен Очирович докладывал, Трубин разглядывал собравшихся в кабинете начальника главка и думал о том, что скажет, если его попросят выступить, и чем все это закончится. Хорошего ждать не приходилось... Обвинение сводилось к тому, что новый метод недостаточно обоснован и проверен, что рисковать никто не имеет права и что фундаменты следует разобрать, как и рекомендовано «Промстройпроектом»
— За подобный авантюризм в строительстве кто-то должен нести персональную ответственность,— заключил начальник главка.—А то у нас, знаете, привыкли... Довольно спускать за подобное головотяпство. Предлагаю оргвыводы в отношении Шайдарона и Трубина. Членов коллегии прошу высказаться.
Перед Трубиным будто опустилась пелена. Расплывчатые очертания лиц, стола, окон... Слова — гулкие, тяжелые — стучали в висках. а внутри все заливало, захлестывало щемящим холодом. И сразу в мыслях у него возникли самые наихудшие, по его мнению, варианты оргвыводов, которые ему уготовили как основному виновнику. Не зная, что ему будет, он уже сейчас готовил себя к наихудшему, и все надежды представлялись ему едва видимой узкой светлой полоской.
Эта полоска посветлела и расширилась, когда заговорил Озен Очирович Шайдарон. Он как можно деликатнее намекнул, что можно было бы и подождать с заключением по бетонированию, что комиссия-то была создана обкомом партии и она еще не отчиталась перед теми товарищами, перед которыми ей нужно отчитаться. Основную вину, если таковая будет установлена, Озен Очирович брал на себя. Я разрешил Трубину вести бетонирование, хотя мог бы и запретить. Инженер он молодой, способный, показал себя с положительной стороны как старшим прорабом, так и бригадиром»,— говорил Шайдарон.
— Любит самозольничать,— вставил директор комбината. — Не без его содействия произошло хищение сэкономленного бензина в автоколонне.
— Мы разбирались, ничего подобного,— возразил Шайдарон.
— Короче, давайте короче,— проговорил начальник главка.
И светлая полоска перед глазами Трубина снова сузилась, и холодок прошел по телу, рождая гнетущее предчувствие неотвратности всего случившегося.
— Вот вы, товарищ Шайдарон, выгораживаете старшего прораба...
— Не выгораживаю.
— Ну... защищаете.
Прозвучало громко и резко от дальнего окна:
— Картина ясна. Ну, сколько еще можно? Надо голосовать.
Полоска света придвинулась к углу кабинета, где сидел Шайдарон. Между его стулом и стеной. Узкая дрожащая полоска. Трубин не смотрел, как поднимались руки, он лишь слышал, как произнесли громко и резко:
— Кто против? Нет?
В тишине мерцала полоска... Мерцала, затухая. И опять:
— Кто против? Кто воздержался? Нет.
Шайдарону — выговор.
Трубина — снять с должности.
В прорабской постукивали ходики. За окном урчал мотор бульдозера. Он то затихал, то угрожающе гремел совсем близко и тогда рамы вздрагивали и штукатурка чуть слышно осыпалась на пол. Оглушенный и опустошенный стоял Григорий посредине комнаты, пытался о чем-то думать — стройно и последовательно, пытался хоть одну мысль довести до логического конца, но не мог ни на чем сосредоточиться. Одна мысль заслоняла другую, словно была важнее той, первой, а вскоре появлялась еще более важная мысль, которая вытесняла все остальное. Но и эта мысль, как вскоре обнаруживалось, не была самой важной. А через некоторое время он приходил к решению, что самой-самой важной мыслью была та. которую он оставил давно, почему-то не придав ей значения.
Будто бы женский голос... Он вовсе мешал думать. Опять голос... Григорий в раздражении обернулся. Перед ним стояла Рая Шигаева. Лицо замотано платком и оттого круглое и светлое, как луна.
— Можно, Григорий Алексеич?
— Ты ко мне? Садись. Что у тебя?
— Да так... Особенного ничего. Шла мимо, вспомнила, как... Помните, летом прошлым? Постучала к вам и вы вот так же стояли, как сейчас, и не слышали меня. Я, наверное, всегда к вам не в то Еремя прихожу. ·
— Ну, что ты, Рая! Приходи, когда хочешь, когда надо тебе.
И сообразил сразу, что сказал не то, что надо бы. И неловко стало за непроизвольно вырвавшиеся слова.
— А у меня часы, Григорий Алексеич!
— Часы? Какие часы?
— Обыкновенные.— Она подвернула рукав куртки.— Вот...
— Да, да... Это хорошо.
— Да вы же ничего не знаете!— воскликнула она, и такое рвущееся наружу счастье было в ее глазах, что Трубин на какое-то время позабыл о своих тяжелых и трудных мыслях.