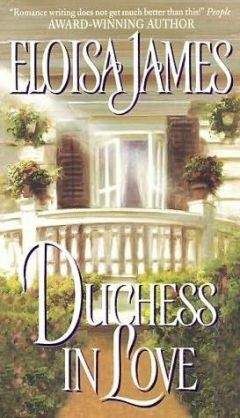Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
— Мы не знаем, что произойдет летом,— заявила она. —Летом фундаменты могут не выдержать.
— Почему?— спросил Шайдарон.
— Если бы можно было ответить на все «почему»,— развела руками Елизова.— Изменяется температурный режим, характер атмосферных осадков, да мало ли что... Вот подойдет лето и проверьте. Я первой буду приветствовать вас, если прочность бетона сохранится.
Шайдарон и Каширихин попросили членов комиссии подождать с неделю.
— Что это вам даст?— спросил председатель. — Не думаете ли уж вы, что члены комиссии изменят свое отношение к бетонированию?
— Нет, не думаем. Этот срок нам потребуется для выяснения кое-каких деталей,— ответил управляющий.
Члены комиссии не возражали подождать неделю. Директор комбината заявил, что это будет «последняя неделя» и, если строители не внемлят здравому смыслу, он напишет в обком.
Глава девятнадцатая
Нежданно-негаданно Бабий пригласил Трубина на свои именины. Трубин хотел, было, отказаться.
До именин ли ему... Но Бабий не отставал: «Не обижай, Григорий Алексеич! Ни разу же не был у меня».
Софья, обычно не охочая до гостей, согласилась пойти к Бабию.
Григорий удивился. Уж не надумал ли Бабий свести его с Софьей? Да и та странно вела себя. Согласилась пойти...
На именины пришли бригадиры Цыбен Чимигдоржиев и Аким Твердохлебов, Колька Вылков, Рая, Мих. Остальных Григорий не знал. Напротив его сидел со скучающим виноватым лицом бригадир плотников Твердохлебов. «Чего он скучает?— подумал Трубин. —II почему у него виноватое лицо?» Рядом с Твердохлебовым сидела красивая женщина. Она была красива правильностью, соразмерностью форм и линий лица, рук, ног. Она глядела на всех строго, держалась недоступно и похожа была на афинскую богиню.
Именинник старательно скрывал свой возраст, дурашливо выкрикивал, играя плечами:
А я мальчишка лет семнадцать, двадцать, тридцать, сорок...
Менялись тосты, менялись закуски. Только настроение Трубина не менялось. Водка сделала его еще более мрачным и менее разговорчивым. Шутки и смех казались неуместными. Какая-то убогая серость надвигалась на него отовсюду.
Жена Бабия, полная, кудрявая, раскрасневшаяся, кричала через весь стол такой же полной и раскрасневшейся жене Твердохлебова:
— У каждой жены есть «дело» на своего мужа. У каждой на каждого! Ты отдай мне «дело» на своего мужа. Отдай!
Та смеялась и несогласно мотала головой.К Трубину подсел Бабий. Заговорил быстро, несвязно, не всегда понятно:
— Уважаю тебя. За что? Сам знаешь. Вот как! А эта комиссия... Я тебе говорил, Григорий Алексеич! Предупрежда-ал!
— Давай не будем...
— А ты знаешь, что у меня жена всегда говорит? «Не ты моя половина, а я твоя половина». Во как! Видел? «Не я твоя половина, г ты моя половина». «Не-ет, погоди! «Не ты моя... не я твоя половина». Че-ерт, совсем запутался в этих «половинах»!
Бабий повернулся к Софье, заговорил туманно:
— Две хорошо относящиеся ко мне женщины спрашивают: «Вы, Георгий Николаевич, наверное, душа в душу живете с женой?»
А сам бочком косился на жену — хотел понять, слушала она его или нет. Убедился, что не слушала. И сразу потеряв интерес к начатому разговору, спросил:
— Вам нравится моя двоюродная сестра?
Это он про «афинскую богиню».
— Нравится,— сказала Софья.
— Когда она идет с мужем, голову держит так... кверху. Прямо загляденье.
Трубин улыбался. Гнетущее чувство постепенно рассасывалось. «Этот Бабий мертвого рассмешит»,— думал он. И тут он вздрогнул от какого-то знакомого, полузабытого слова, произнесенного Бабием. Трубин прислушался. Именинник рассказывал Софье о... Флоре. «Вот уж ни к чему,— поморщился Григорий. — И что он может наболтать? Чего он знает? Испортит ей, Софье, вечер».
Софья уже не обращалась к Трубину, словно забыла о нем, и вся как-то сразу сникла, поскучнела. «Ну вот, наболтал... как же я его не предупредил?— досадовал на себя Григорий. — Не надо было ходить на эти именины».
— Я хочу выпить с вами!
Это сказала Трубину двоюродная сестра Бабия.
— Вы такой хмурый. Улыбнитесь хоть, что ли. Ну, выпейте!
Он хотел отказаться под каким-либо предлогом, но тут же вспомнил, что Софья на него обиделась и встречное чувство обиды охватило его: «Подумаешь, Флора! Ерунда какая».
Он выпил.
— Вы любите лесные цветы?— спросила она его и, не ожидая, что он ответит, заговорила: — В них что-то есть от леса, от его могучей и простой красоты.
«Вот тебе и афинская богиня»,— подумал Григорий.
В ее узких, подведенных стеклографом, глазах что-то блестело живое и теплое. Она не отпускала его от себя ни на минуту и, казалось, что все остальные люди, находившиеся здесь, для нее не существовали. Он пытался вежливо умерить ее, но это ни к чему не привело.
— Вы, оказывается, трус,—шептала она ему, не переставая улыбаться.— Ой, какой трус!
Танцевала она только с ним, пила только с ним, садилась только рядом с ним. Трубин пытался пристроиться к Цыбену Чимитдоржи- еву, но она и тут не оставляла его в покое. Становилось неудобно перед Софьей, перед хозяевами.
Трубин нарочно заговорил с Чимитдоржиевым о стройке, подозвал Твердохлебова, просил будто бы совета:
— Что делать с «Гидроспецфундаментстроем»? Им мешают плиты, они хотят их снять...
— Они же приварены, эти плиты,— ответил Чимитдоржиев.— Надо посмотреть...
— Приваренные плиты отдирать неположено,— вставил Твердохлебов.
— Ничего-о!— горячился бригадир монтажников. — А мы снимем и сделаем обратный монтаж. Верно, Григорий Алексеич?
— Мужчины! Опять о своем производстве?— вмешалась хозяйка. — Прекратите сейчас же! Штрафную нальем...
Но мужчины уже были задеты за живое.
— Плиты — что? — заговорил Твердохлебов.— Вот вы скажите, куда мне лишний тес? Я не Пашка Патрахин... с его бензином...
— По уму сдайте на склад,— засмеялся Чимитдоржиев и, подражая Шайдорону, добавил: «Сдадите на склад и мы вас поймем, не сдадите — не поймем». А вообще-то... Что твой тес, Твердохлебов? У меня вот сварщики простаивают. Сак не действует, сальника нет... У двигателя отсутствует магнето и электрическая часть замонтирована неправильно — от генератора. Схему запутали... И сами разобраться не могут.
— У сака же свой аккумулятор.
— А динамо нетути...
— Но понижающий трансформатор есть?
— Никто ничего не знает,— отрезал Чимитдоржиев. — Странно... Возьму сак из резерва.
— Подходите завтра ко мне, разберемся,— пообещал Трубин.
— Григорий Алексеич!— Цыбен хлопнул Трубина по плечу. — Люблю таких... Чтобы все знали, все умели... Вот таких! Люблю!
Хозяйка подхватила Чимитдоржиева под руку и увела. «Богине» только этого и надо. Она затащила Трубина на кухню и, крепко сжимая его руку, говорила о мужской трусости, хуже которой ничего Нельзя придумать. Он уже порядочно выпил и слушал ее снисходительно.
— А вы мне сначала показались похожей на скульптуру,—смеясь, сказал Трубин.— На красивую холодную скульптуру.
— Не-ет, я не такая,— ответила она и умолкла. А глаза ее что- то говорили, продолжали за нее навивать обрывочные клубки слов и мыслей, но Трубин ничего не понимал.
Пришел Бабий. Отозвал Трубина.
— Григорий Алексеич, Софья ушла. Домой.
— Ну, что же. Ушла так ушла.
Он сильно потер ладонью лоб, пытаясь собраться с мыслями, и решить, что надо ему делать, если из гостей ушла Софья, не предупредив его. «Приревновала к этой... «богине». И еще ей про Флору стало известно».
— Ты ей о Флоре что говорил?
— О Флоре?— Бабий подумал. — Вроде бы ничего
— А где Чимитдоржиев с Твердохлебовым?
— Недавно ушли.
— Слушай... Почему у Твердохлебова виноватое лицо?
— А черт его знает! Хотя... будешь виноватым... — спохватился Бабий,— когда у него сплошь сырая рейка, ему бабы в поселке проходу не дают. Он пол настелит, а через месяц трещины пойдут...
Бабий, пошатываясь, ушел к гостям. У Трубина, было, ворохнулось чувство тревоги за Софью: как-то она дойдет одна? Но тут его повели в комнаты, где уже раздавались голоса о том, что самое время покататься на санках.
Трубин запомнил лунную дорожку, скрип полозьев, хохот «богини». Звезды кидались по сторонам, будто ошалелые, темные крыши АОмов поворачивались навстречу и следили за санками, склоняясьнад ними мертвыми стеклами окон. Откуда-то падал снег. Трубину казалось, что невидимое существо едет позади его и посыпает над головой снегом. Где-то кричали разноголосо:
— Вот летит!
— Еще вот!
— Опять!
И нельзя понять, о чем эти голоса — то ли о падающем снеге, то ли о летящих санках.
Потом все стихло. Снег уже не падал. И ничего не видно —ни крыш, ни звезд. Кто-то тормошил его за плечо.
— Григорий Алексеич!
— А? Что?
— Да это я, Бабий.
«Славно нагулялся,— подумал Трубин с каким-то неосознанным раздражением не то на себя, не то на Бабия. — Не хотел же на эти именины идти. И зачем пошел? Напился. Софью обидел».