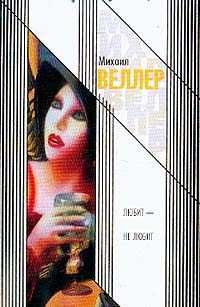Валерий Гапеев - Однажды в Почутове
— Ну, давай там, поспеши, — кивнул скорбно головой Степан.
В общем, совсем невесело стало у нашей бани. Да и Степан откололся: не могу, говорит, себе позволить такого удовольствия, пока не узнаю все про Ольгу...
Через неделю собираемся в пятницу, как положено, у бани, без Степана уже, тут Леший приваливает, — скрюченный, хоть ты его в лукошко клади.
— Слышь, чучело лесное, чего тебя так пригнуло? — спрашивает Горыныч.
— С вами, людьми, намыкаешься, — отвечает Леший. — Хотел просветить, понимаешь, отсталость серую, так они непонятно что устроили...
— Ты поясни, а потом обвиняй, — убедительно попросил Семен. — А то я ведь сгоряча...
— Цыц всем! — отдал приказ Митрич, учуяв настоящую беду Лешего. — Сказывай, лесной дед, что случилось?
— Вот и случилось... — присел Леший на скамейку, козью ножку у Митрича взял, затянулся, выдохнул облако и стал сказывать: — Вот не знаю, кто про мой телевизор напутал, да только стали ко мне приходить молодухи, чтоб я им погадал! Не, вы это видели: Леший работает за гадалку! Это ж первый Леший-философ, можно сказать, во всей округе, а они из него бабку-гадалку сделали.
— А чего тебе гадать? Включил бы им телевизор...
— Так я и хотел было включить! — отчаялся Леший. — Сделал ведь, все показывает. Да только...
— Что только? — спрашиваем.
— Степаниха ко мне пришла, ну, Ольга, нашего Степана жена, — начал рассказывать Леший. — Пришла, вот такой кусок свежины притащила, не вам ровня, жадины. Пришла, значит и говорит: «Ничего я в жизни этой не видела, окромя любви своей Степана. Всю жизнь ему собой застила, насильно на себе женила, и первого ребенка, его не спрашивая, без свадьбы от него зачала. И всю свою жизнь положила на то, чтобы рядом со мной он был, чтобы счастье мое со мной было. А если бы не была я такой настойчивой? Степан же умный мужик. Женился бы он на той городской, выучился может, и министром стал бы, при деньгах был бы, при должности. А я его, баба деревенская, в четырех углах закрыла, от света отгородила, что я ему дала? Любовь свою? Так любовь на хлеб не намажешь, на плечи не накинешь... Включи свою машинку, Леший, хоть правду знать буду: каким счастливым был бы мой Степан, если бы я, дура такая, не уцепилась в него кошкой остервенелой... »
Вот те и раз. Тут мы все про сомнения Степана вспомнили.
— Надо им очную ставку сделать, — говорит Семен. — Степану и Степанихе. Чтоб не несли всякую чушь друг на друга.
— Сам чушь несешь, — отвечает Митрич. — Надумал, тоже: в любовь соваться. Без нас разберутся. Слышь, Леший, а машинку ты починил, все исправно показывает? Степанихе показал?
— Починил, — говорит Леший. — А Степанихе не показывал, сказал — неисправный. И сам не глядел. Ну его... Вот, с собой притащил, — и ставит на столик наш, между пива, свой гадский телевизор.
— Это хорошо, — говорит Митрич. — А за сколько ты его продашь?
— Продать? — вскинулся Леший. — Да он мне столько денег принесет...
— Ладно, договоримся, — говорит Митрич. — С каждой моей свежины тебе... пол-лопатки.
— И полендвицу! — добавляет Леший.
— И с меня пол-лопатки, — расщедрился Горыныч.
— Так и я не против Лешего попотчевать, — подключился Семен. — Мои, знаешь, какие кровянки вкусные делают? А колбасы?
Растерялся Леший. Подумал-подумал и решился:
— Ладно! Ваш аппарат! Но чтоб честно!
— Да кто же тебя, черта лесного, обманывать будет, — усмехнулся Митрич. — Давай, Горыныч...
Ну, Горынычу два раза повторять не надо. — Дыхнул он сильно, но осторожно, затяжным выдохом — пламя аккуратно на аппарат пришлось. Тот и сгорел, только кучка пепла осталась.
— Ишь, технология какая хорошая, — заметил Митрич. — С такого большого аппарата пепла чуточку.
Так и не узнал Степан, что бы да как было, если бы он не женился на Ольге, а Степанихе мы и вовсе сказали, что все про аппарат наврал Леший.
И правильно мы сделали. Потому что, как узнали в Почутове, что сгорел аппарат инопланетный у Лешего, враз веселее стало возле нашей бани.
Про Митрича
Помер наш Митрич.
В ту самую пору, когда после скучных дождей приходят ядреные светлые утра.
В пятницу он попросил Семена взять машинку постричься. И Семен его аккуратно постриг возле бани. Попарились мы с чувством: все работы в огородах сделаны, осталось свеклу подергать, но до морозов еще далеко. Сидели, любовались на солнышко золотистое, слушали Горыныча: он про дальние страны рассказывать мастак. О хорошем все говорили, тихо и тепло, без споров.
Митрич домой пришел. Митричиха его, как обычно такой порой, сериал свой смотрела. Прилег Митрич на диванчике в передней. Попросил чаю. Митричиха говорит, дай, мол, досмотреть, потерпи: тут вроде сейчас очень интересно будут в любви признаваться. Досмотрела свою серию. Кричит Митричу:
— Дай-ка телефон, там лежит у тебя под головой, позвоню соседке, спрошу, что-то я не поняла, любит он ее или бросать будет.
Молчит Митрич.
Глянула Митричиха, а он помер.
Похоронили мы Митрича. Отродясь таких поминок в Почутове не было: на полдеревни столы прямо на улице поставили. А что ж...
Про Митрича и его силу мужскую у нас все знали. Да не все. Только мне Митрич признавался, что да как случилось.
Митричиха — она же не всегда Митричихой была. Звали ее и Клавдией. А Митрич, тогда Митька, звал Клавушкой. Месяц они после свадьбы пожили и ушел Митрич на войну. Клавдия ему сыночка родила. Да не судьба: как почутовцы от карателей зимой у Болотника хоронились, заболел и помер мальчишка. Убивалась Клавдия.
Вернулся Митрич с войны, один мужик на все Почутово с руками и ногами. Нашей стороне уж больно досталось: по одному-два мужика возвращались в села. Да что ж, жить надо. Мужикам — дома строить, печи класть. Бабам — детей рожать. А от кого?
Была у Клавдии подруга роднее сестры. Пришла она к ней и говорит, как есть, прямо: одна я на белом свете, никого из родных не осталось, мужиков нету. Пусти своего Митрича ко мне... печку сложить. Ни взглядом, ни словом после не упрекну, дай только возможность мне ребеночка заиметь...
И не выдержала, завыла Клавдия так, как только бабы воют — так что всякому ясно станет: горе страшное, непоправимое. И рассказала Клавдия подруге: Митрич мужик, да только... не мужик. Ранило его, да в такое место, что все на месте осталось, кроме мужской силы. Вернулся Митрич здоровый будто, а жизнь не в радость. Словечка не вытянуть, все дни по хатам: печки кладет людям, избы строит, а придет — отвернется к стене и спит будто... Стали вместе две бабы реветь. Услышала этот рев соседка Клавдии, старая Прасковья, пришла. Клавдия и тетке призналась, чего уж... Не утаишь ведь, все равно все узнают. Сказала тогда Прасковья прийти Клавдии к ней поздно вечером.
Пришла Клавдия. Дала ей Прасковья узелок, а в нем — яиц пяток, трава особая сушеная. И подсказала путь к Висюну.
— Только смотри, девонька: узелок этот чтобы принял да выслушал тебя. А уж какую плату возьмет — этого я не знаю...
Висюн в старом ельнике, месте страшном и нелюдимом, жил. Там и в яркий день сумрачно. Пришла в тот ельник Клавдия. Позвала Висюна. Явился, как корч старый, сухой, скрюченный. Протянула ему узелок Клавдия и говорит:
— Просить тебя хочу, Висюн-хозяин.
— От ведь бабы какие вредные! — вскинулся тот. — Мужиков в селах не осталось, а ты еще и силы которого лишить собралась! А дети откуда браться будут?
— Наоборот, прошу дать ему силу, — сказала тихо Клавдия.
— Как так? — аж подпрыгнул Висюн. — Ты, девка, в своем ли уме? Знаешь ли ты, что, сколько лет я живу, столько лет и силу мужскую отымаю, по просьбам вот таких, как ты, дур. Как же ты надоумилась просить такое у меня?
— Так, Висюн-хозяин, раз волен силу отнимать, волен ее и давать. Проси, чего хочешь у меня взамен.
Прищурился Висюн. Подумал и сказал:
— Верно, могу отнять, могу и дать. Первое тебе условие: не иметь зла на мужа, ежели он другой бабе ребятенка сделает.
Согласно кивнула Клавдия и сердцем сжалась — ждет, что дальше.
— Второе мое условие: ты от него детей никак не родишь до той поры, пока третье условие не выполнишь. А какое третье — говорить не стану.
Все внутри Клавдии черным стало, холодным. Но рассудила: ей с Митричем так и так детей не нажить. Пусть он хоть себя мужиком чувствует. Только бы не бросил ее... Да если и бросит... Главное — чтобы счастливым стал. Пусть у него детишки будут. Ее ведь вина, Клавдии, что их сын-кровиночка сгорел в болоте.
— Согласна.
— Хорошо, девка... — уставился на Клавдию Висюн своими глазками-точками. — Возле деревни стоит груша старая, засыхает уже, одна ветка чуть зелена. Иди домой и думай. Если решишься — бери нож. Палец-мизинец на левой руке разрежь и крест на стволе той груши нарисуй. Сама все увидишь... И знай мое слово: обратно силу у Митьки твоего не заберу, а тебе детей не дам.
Вот так было дело.
Все дивились, как вдруг старая сухая груша-дичка стала в листву среди лета убираться...