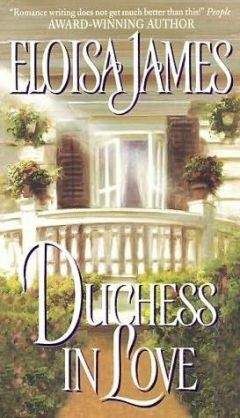Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
Как мы будем жить?
Деревья, соседи — это еще что... Это, если взглянуть посерьез- ному, не так уж и важно. Деревья — везде деревья. Соседи—везде соседи.
А вот как с матерью?
Она осталась совсем одна при весьма неопределенных отношениях с Трубиным. Когда уезжала, о ней как-то думала легко: «Ну, чего особенного? Мало ли как люди живут. Живут и живут. Если уж что такое... можно к себе вызвать». Как просто: «К себе вызвать» А куда вызовешь? Одна комната. Когда две будут — никто не скажет. И вот уже закрадывается сомнение: «Не обманула ли я мать? Не черной ли неблагодарностью отплатила?» Сомнение растет и вскоре выливается в убеждение. Да, она отплатила матери черной неблагодарностью. Иначе никак не скажешь.
Она уже не помнила мелких обид на нее, не помнила ее сварливости, ее постоянного подчеркивания, что «ты, Софья, жить не умеешь», что «посмотрю, как ты без меня проживешь». Она помнила лишь ее болезнь — как вызывала врача, как ходила в аптеку и попала под грозу, как поила и кормила мать из чайной ложки, как та забывала, какие лекарства приняла, а какие нет.
Мать, как умела, как могла, тоже звала ее домой.
Деревья, соседи, мать. Это еще что... Живут же некоторые, не думая о деревьях и соседях. Живут без матери. Живут и живут.
Главное было в нем. В том, с которым она жила на новом месте.
Не-ет, ничего плохого она не могла бы сказать о нем. Он любил ее и был внимателен, заботлив, вежлив. Ее обостренные чувства не улавливали ничего такого, что могло бы ее насторожить. Все обстояло как будто бы так, как надо. Только все выходило очень уж скучно и однообразно, на всем как бы лежал слой смааки и поэтому события приходили и уходили бесшумно, гладко, не имея в себе никаких шероховатостей.
Все время она находилась одна-одинешенька или с ним. Если первые дни Софья не замечала этого, то потом ей просто стало тяжело. Бывали минуты, когда ей хотелось сказать: «Своди меня куда- нибудь».
Ему приходили письма от жены и детей. Жена «раскладывала его по косточкам» Его родители, жалея осиротевших внуков, так же не одобряли того, что он сделал. Письма подобного же содержания Софья получала от матери. «Все люди вечно чем-то недовольны,— думала она. — Вот и его родители, и моя мать — они хотят, чтобы мы жили так, как им представляется необходимым. И сколько угодно найдется знакомых, которые бы хотели, чтобы мы жили так, как этим знакомым представляется».
Софья все чего-то выжидала и не устраивалась на работу. Он спрашивал ее... Для него она находила разные отговорки. Софья все чаще вспоминала свой производственный отдел в тресте: видавший виды двухтумбовый стол, карту на стене, белые и синие бланки актов и нарядов. Там она была кому-то нужна, ей постоянно звонили со строительных участков, кричали в трубку то требовательно, то просительно, то виновато: «Софья Васильевна!» Теперь ничего нет... И те бланки — белые и синие — стали казаться ей чем-то для нее близкими и очень нужными. Еще бы! От того, чем была она занята когда-то, зависело финансирование строительства. А нынче что?
Она ждала какого-то события, которое окончательно решит с ее положением. Шли дни, а никакого подобного события не происходило, и жизнь становилась все более безрадостной. Уже давали о себе внать и материальные затруднения. Приходилось на всем экономить.
А экономить она не умела. Он учил ее этому как можно тактичнее и мягче.
Они ни разу не поссорились, не сказали друг другу резкого или грубого слова. Но Софья с ужасом ждала, что еот-вот это произойдет и тогда неизвестно, что делать, как поступить. Одно дело —поругаться с Трубиным, наговорить сгоряча всякого, а другое дело— здесь...
Мысль о возвращении домой все дольше задерживалась у нее в голове. Не Трубин, она бы уже уехала. Но он там жил, с матерью. И пойти на унижение она не решалась.
Лишь с того дня, когда она прочитала письмо Трубина. Софья стала готовиться к отъезду. Отныне все, что она ни делала, было связано с отъездом, все соизмерялось с тем днем, когда она сядет в поезд. Жизнь для нее начала приобретать иной смысл. Теперь ей было безразлично, какие тут соседи, какие яблони в саду, и даже магнитофонная лента не раздражала. Она временный здесь житель, пусть себе все остается, как было до нее.
Прежние ссоры с Трубиным казались такими нелепыми и пустяковыми, что просто не верилось, что из-за них она решилась на разрыв с мужем. Он, видите ли, пальто не помогал ей надеть... Поздно пришел то ли после шахмат, то ли после преферанса... Не-ет, он вес- же лучше, чем кто-либо. Софья не могла объяснить даже самой себе, чем Трубин лучше.
Однажды она стояла у плиты, думала, что делать со вчерашним супом. В кастрюле остался лишь бульон. Готовить свежую приправу? Так надоели бесконечные супы! Дома все было бы иначе. Мысли ее унеслись далеко. Она .опять вспомнила Трубина и сравнила его с тем, с которым теперь жила. «Нет, хватит, надо возвращаться'),—решила она. Софья так задумалась, что забыла о том, что ей надо готовить обед.
Пришел день, когда она сказала ему о своем намерении уехать домой. Сначала он ничего не понял.
— Как же так? А у меня билеты в кино...
Потом до него дошло. У него задрожали губы и жалкая улыбка скользнула в уголках рта.
— Какие тебе билеты? Я уезжаю. Эго решено твердо. Прошу тебя об одном. Очень прошу... Не отговаривай, не надо меня отговаривать.
— Я останусь тогда... совсем один,— сказал он глухо.
Софья промолчала.
— Ты его любишь?
— Я не могу его забыть.
— Но ведь после всего случившегося у тебя не будет с ним счастья!
— Может быть, и не будет. Но хоть что-то...
— Не продолжай, пожалуйста. Меня не возмущает то, что ты говоришь об отьезде. Меня возмущает твоя маскировка. Ты давно задумала уехать. Теперь я все понял. Ты уподобляешься бабочке, порхающей с цветка на цветок.
— Уж лучше бы ты сказал, что я уподобилась бабочке, летающей от огня к огню и нимало не заботящейся о сеоих крыльях.
— Одно от другого недалеко.
— Я просила не отговаривать меня. Неужели ты будешь доволен жизнью, зная, что я сплю и во сне вижу, как возвращаюсь домой?
— Разумеется,— сказал он холодно. — Ложь — вот единственное, чего я не могу тебе простить. Ты долгое время обманывала меня. 06- манывая, ты ставила на карту нашу любовь. Или ее вовсе не было? Не было, да?
— Ах оставь ты!.. В чем бы я тебя обманывала? И какую выгоду для себя я могла извлечь, принимая решение сойтись с тобой? Какую? Приобрести ненависть твоей жены и твоих детей, холодную настороженность твоих родителей, слезы моей матери? Приобрести сплетни подруг и знакомых, которые никак не могут понять, почему я уехала, и потому не могут успокоиться? Не в этом ли я искала для себя выгоду?
— Ты не достойна высокого чувства, коль способна на столь низменные. Неужели ты сомневалась в моей порядочности?
— Не надо так говорить обо мне,— попросила она. — Я расплачиваюсь немалой ценой за все...
Этот трудный и тяжелый для них разговор то утихал, то вспыхивал с новой силой. Обвинения сталкивались с обвинениями, откровения гасились подозрительностью, упреки перемешивались с мольбами и весь поток едких и злых слов терзал их обоих, хотя, как это часто бывает, они напрасно мучили себя, потому что ничего уже не могли изменить. Если бы в те минуты они подумали о будущем, подумали о том, что пути их разойдутся навсегда, что очень скоро новые заботы и планы будут одолевать их каждодневно и вне всякой связи с тем, что где-то живет «он» или где-то живет «она», если бы в те минуты они смогли взглянуть на окружающий их мир с некоей высоты, они бы поняли всю бесцельность и ненужность этого трудного и тяжелого разговора.
Записи Догдомэ, сделанные ею вскоре после приезда Софьи: «Я хотела, я должна уничтожить все то, что я пишу. Но не могу. В этом дневнике, мне чудится, живет частица моей любви. Люблю я, наверное, сильно. Люблю так, как всегда хотела любить. Я не могу на него ни сердиться, ни обижаться. Да он ничего и не сделал такого... Да, он не может меня любить, но разве он виноват в этом?
Но любит ли он хоть кого-нибудь? Может ли он вообще любить?
Я стараюсь приучить себя к мысли быть вместе с Вовкой, моим хабаровским другом, с которым, возможно, я уехала бы... будь он решительней. Он хороший. Но он — не ты, Трубин. Вот сейчас вижу твой вчерашний взгляд, пронизывающий насквозь, и улыбку, понимающую все...
Наверное, мне не быть ничьей женой, пока ты существуешь.
Ворваться в твою семью, пусть не совсем в твою, я не могу. И не умею, не в моем характере, да и бесполезно. Ты же меня не поддержишь, слишком для тебя крутой поворот: отказаться от выверенного ритма жизни и почти полной свободы от жены.
Есть слух, что Софья и Григорий не сошлись. Если бы так... В это никак не верится. Живут в одной квартире... Рано или поздно — они помирятся. Он ее простит. И она его...
Да, ты, Григорий, не откажешься от своей свободы. Твой путь с Софьей Васильевной, на мой взгляд, можно сравнить с восьмерками. Восьмерка за восьмеркой... У вас с ней две жизни, два русла и они пересекаются только там, где пересекаются линии в восьмерках.