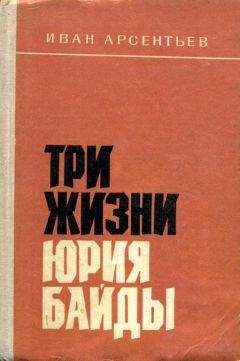разведка - ИВАН БОРОДУЛИН
И
Коля Егоров, перехватив руку бинтом, встал на лыжи и пытался помочь мне. Однако через несколько десятков метров мы убедились, что так погибнем оба. Я упросил его бежать без меня, и Николай, отталкиваясь одной палкой, заспешил к спасительному лесу. Я долго глядел ему вслед. От берега до расположения наших частей был еще час нормальной ходьбы на лыжах. Но Николай бежал раненым. Стало быть, ждать помощи прежде, чем наступит темнота, было нечего.
Как мог, я перевязал ногу и остался лежать на льду, в белой тишине, безучастный ко всему на свете. Лежал долго, отморозил пальцы на руках и ногах, потерял много крови, а потом и сознание.
Только в полевом госпитале узнал, что меня подобрал на ладожском льду санитарный самолет У-2, который, между прочим, пилотировала девушка. Я долго расспрашивал медиков, пытаясь узнать фамилии тех, кто спас мне жизнь, но так ничего и не выяснил. Не знаю этого и до сих пор.
В госпитале мне сделали первичную обработку раны, а лечить и выздоравливать отправили в город Вытегру. Там я проскучал до конца марта.
И вот я уже в поезде, идущем на Север, в Кандалакшу. В кармане гимнастерки — направление в 10-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая стоит где-то у неведомой мне речки под названием Западная Лица.
В теплушке тепло и даже уютно. Убаюкивающе стучат колеса. Я лежу на верхних нарах у небольшого окошка и считаю, что мне повезло — могу видеть все, что проплывает за стенкой вагона. Впрочем, другие тоже не скучают. Как всегда в солдатской среде, и тут нашелся свой вагонный Теркин, солдат лет тридцати. Он сидит у печки-буржуйки, накинув на плечи новенькую
27
шинель, и, польщенный общим вниманием, довольно занятно рассказывает бывальщины из своей жизни.
Так, с побасенками, веселыми и грустными рассказами, с тихими воспоминаниями о былой мирной жизни прошло три спокойных дня дороги. После Беломорска к нам в провожатые подрядились гитлеровские летчики. Своими боками мы основательно ощущали мастерство машиниста, уводившего поезд из-под бомб: то в невесомости летели с нар куда-то вперед, то валились с ног в обратную сторону, больно ударяясь о стенки вагона, Впрочем, до нас, видимо, не все «увертывались»: из своего окошка я видел у полотна дороги разбитые и обгоревшие остовы вагонов, покоробившиеся цистерны, изогнутые рельсы.
На станцию Лоухи мы прибыли через полчаса после того, как тут побывали вражеские самолеты. Собственно, станции не было. Были груды битого кирпича и какие-то немыслимые конструкции из черного обгоревшего дерева. Землю — и ту перепахали взрывы. Глядя на эту картину, помрачнели даже самые бывалые и неунывающие солдаты.
— Выгружайсь! — пронеслась по вагонам команда, и через несколько минут мы уже построились в колонну.
Выяснилось, что станционные пути до самых выходных стрелок разрушены, на ремонт нужно время, и командование эшелона решило не рисковать людьми, если налет повторится.
Мы ушли километра за три от станции и расположились в лесу.
Только в сумерках, когда наступила относительная ночь, наш эшелон тронулся и к утру благополучно прибыл в Кандалакшу, где мне предстояло пройти обязательный карантин, прежде чем ехать в часть.
Служба в резервном батальоне, находящемся на карантинном положении, полностью соответствовала известной поговорке «Солдат спит, а служба идет». Никаких особых забот у нас не было, и однажды, получив разрешение комбата, я с группой ребят из батальона побывал на высоте близ Кандалакши, где погиб наш советский дирижабль. Это, пожалуй, единственное, что запомнилось мне в Кондалакше, если не считать, конечно, трагикомической истории с тулупом.
Выписываясь из госпиталя, я по вещевому аттестату получил новенький армейского покроя бушлат. Но весна 1942 года в Заполярье была на редкость сырой и холодной. В мае сыпало колючим снегом, и я немилосердно мерз. Не долго думая, я променял свой щегольский бушлат на длинную черную шубу. Пока стояли холода, мне было тепло и удобно — шубы хватало и подстелить, и укрыться. Но вот засветило солнце, установились погожие дни, и мой спасительный тулуп стал мукой. Мало того, что я в нем потел как мышь, — меня то и дело поднимали на смех.
Однажды при построении, как я ни прятался, мое злосчастное одеяние увидал комбат. Он вызвал старшину и приказал найти замену тулупу. Под общий хохот солдат, соскучившихся по развлечениям, я отдал свою роскошную шубу и получил взамен потертую, бывшую в употреблении, шинель.
Вскоре я выехал к месту назначения, на фронт.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В ДЕСЯТОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ
Вместе с большой группой солдат и офицеров я вышел из вагона на станции Кола и пешком отправился в Мурманск. Добравшись до района Лыжной базы, мы свернули в сопки и сидели там почти до самого вечера, потому что город бомбили. Мы видели, как кружат над Мурманском самолеты, слышали разрывы бомб, но не хотели и не имели права лезть в это пекло.
Потом мы прошли по черным улицам города, пропахшим дымом и подгоревшей рыбой, спустились к причалу порта и погрузились на катера. Несколько позднее— наш катер подходил к мысу Мишуков — из-за сопок снова показались немецкие самолеты и снова завыли сирены. На город обрушивался очередной бом-Зовый удар.
Дорога к фронту петляла между сопками, то круто поднимаясь, то сбегая в долины. Клейкие листочки карликовых березок пахли весной. Мы шли небольшими, то два-три человека, группами и настороженно следили,
е появятся ли самолеты. Нас предупредили, что гитлеровские летчики не упускают возможности поохотиться
а дороге.
Отшагав километров тридцать, мы подошли к речке У ре. Из воды торчали остатки обуглившихся свай — 1идно, мост разбомбили. Однако переправа действовала! Она поразила меня своей простотой и необычностью. Мост находился под водой! Потом я узнал, что эту пере-|раву придумал^ саперы, которым надоело по нескольку раз в сутки восстанавливать мост. Сложенная из камней и прикрытая водой, дорога не была видна с воздухе и служила безотказно. Во всяком случае, я переправился через Уру, не замочив шинели.
Заполярным летом, когда солнце не уходит с неба, приезжему человеку трудно угадывать, что на дворе: утро, полдень или вечер. Мне и теперь не вспомнить, в какое время суток мы подошли к долине на 51-м километре дороги от Мурманска. Но до сих пор стоит в глазах та страшная, поразившая меня картина. Долина была полем недавнего и жестокого боя. Во многих местах еще лежали трупы в шинелях мышиного цвета. Упругий ветерок плотно вбивал в нос какой-то странный сладковатый запах, напомнивший мне глубокий сухой колодец в деревне, куда мы, мальчишки, озорства ради сбрасывали кошек.
Я спустился напиться к небольшому озерцу, наклонился к воде и отшатнулся: там тоже были мышиные шинели.
Вскоре я узнал, что незадолго до моего приезда на Север немецкие дивизии предприняли на Мурманском направлении еще одно наступление. Однако наши стрелковые дивизии, морская пехота Северного флота, пограничники сумели сдержать горных егерей. Апрель-ско-майское наступление гитлеровцев закончилось провалом и крупными потерями.
Нелегко пришлось в этих боях 10-й гвардейской.
В некоторых стрелковых ротах осталось по 20—25 человек. Отдельные участки длиной в километр обороняли всего три-четыре пулеметчика.
Новое пополнение, то есть нашу группу, в дивизии встретили приветливо. Командир 10-й гвардейской генерал Худалов обошел строй, поздравил нас со вступле-
PAGE31
нием в гвардейскую семью и пожелал успеха. В каких-нибудь полчаса представители полков разобрали вновь прибывших солдат и офицеров.
Меня пригласили на командный пункт, и присутствовавший здесь майор — это был командир 28-го стрелкового полка — предложил мне принять командование полковой разведкой, которая к тому времени осталась без офицеров. Я дал согласие и тут же получил задание укомплектовать взвод разведки.
Штаб 28-го полка находился на высоте, имевшей кодированное название Шпиль. В сопровождении ординарца командира полка я отправился в землянку, где жили разведчики. Их было трое, оставшихся в живых после недавних боев. Один оплетал березовыми ветками стену землянки, двое других ладили верхние нары. Мельком подумал, что ребята затеяли пустое — из кривых и тонких березок вряд ли можно соорудить крепкое ложе на пять-шесть человек.
Разведчики отложили работу. Один из них — Георгий Гордеев — заметно обрадовался моему появлению. Как я узнал позднее, он был пока за главного, но должен был ехать, в офицерское училище и с нетерпением ждал себе замену. Двое других поздоровались хмуро и сдержанно — что-то им, видимо, не понравилось. По одежде и фронтовой бывалости я заметно проигрывал— у всех троих на гимнастерках сверкали новенькие ордена Отечественной войны, у меня ж на груди кроме пуговиц ничего не было.