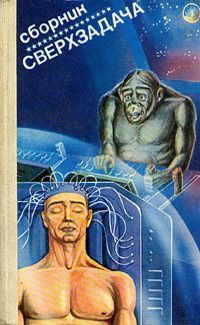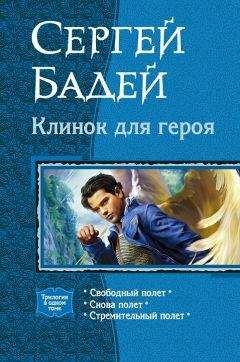Пол Остер - Измышление одиночества
Мысль о страдании ребенка, следовательно, для него чудовищна. Она еще чудовищнее самой чудовищности этого мира. Потому что лишает мир единственного утешения, и в том, что мир нельзя представить без утешения, – чудовищна.
Дальше ему не зайти.
* * *Вот с чего все начинается. Он стоит один в пустой комнате и начинает плакать. «Она для меня чересчур; я не могу заставить себя свыкнуться с этой мыслью» (Малларме). «У людей вид узников Бельзена», как отметил инженер из Камбоджи. И да – в том самом месте умерла Анна Франк.
«Удивительно, – писала она всего за три недели до ареста, – что я еще сохранила какие-то ожидания, хотя они и кажутся абсурдными и неисполнимыми… Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей, и все же, когда смотрю на небо, то снова наполняюсь уверенностью, что хорошее победит, жестокость исчезнет…»[121]
* * *Нет, он не имеет в виду, что это – единственное. Он даже не делает вид, будто говорит, что это можно понять, что, говоря об этом, не переставая, в нем можно будет открыть смысл. Нет, это не единственное, и жизнь вместе с тем продолжается – кое для кого, если не для большинства. Однако в этом есть то, что всегда будет бежать понимания, он хочет, чтобы для него оно всегда было до начала. Как во фразах: «Вот с чего все начинается. Он стоит один в пустой комнате и начинает плакать».
* * *Возвращение во чрево кита.
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня»[122].
Также и в этом повеленье история Ионы отличается от историй всех остальных пророков. Ибо ниневитяне – не евреи. В отличие от прочих носителей слова Божьего Иону не просят обращаться к собственному народу, но – к иноземцам. Хуже того, они – враги его народа. Ниневия была столицей Ассирии, в то время – самой могущественной империи на свете. По словам Наума (чьи пророчества сохранились на том же свитке, что и рассказ об Ионе): «…город кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем грабительство»[123].
«Встань, иди в Ниневию», – велит Господь Ионе. Ниневия – к востоку. Иона тут же отправляется в Фарсис (Таршиш или Тартесс на крайней оконечности Испании). Он не просто убегает, он отправляется к пределу известного мира. Бегство его понять нетрудно. Представьте аналогичный случай: еврею велят проникнуть в Германию во время Второй мировой войны и агитировать против национал-социалистов. Даже помыслить о таком невозможно.
Уже во II веке один из раввинских комментаторов утверждал, что Иона сел на корабль, дабы во имя Израиля утопиться в море, а не сбежать от лика Господня. Это политическое прочтение книги, и христианские толкователи быстро обратили его против евреев. Феодор Мопсуестийский[124], к примеру, говорит, что Иону послали в Ниневию потому, что евреи отказывались слушать пророков, и книга об Ионе написана в назидание «жестоковыйным». Руперт из Дойца же, другой христианский толкователь (XII века)[125], утверждает, будто пророк отказался повиноваться Божьему повелению из верности своему народу, и по этой причине Господь на Иону не очень рассердился. Это напоминает мнение самого Рабби Акивы[126], утверждавшего, будто «Иона ревновал к славе сына (Израиля), но не к славе отца (Бога)»[127].
Тем не менее Иона в конце концов соглашается идти в Ниневию. Но даже после того как он передает ниневитянам сообщение, даже после того как они раскаялись и исправились, даже после того как Господь их пощадил, мы узнаем, что «Иона сильно огорчился этим и был раздражен»[128]. Это гнев патриотический. К чему щадить врагов Израиля? И вот в этом месте Господь преподает Ионе урок всей книги – в следующей ниже притче о горлянковом дереве[129].
«И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?»[130] После чего «вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом»[131] – тем самым подразумевается, что он по-прежнему еще надеялся: есть шанс, что Ниневия будет уничтожена, – либо рассчитывал, что ниневитяне вернутся к злому пути своему и навлекут себе на головы наказание. Господь выращивает тыкву (горлянковое дерево или клещевину), дабы защитить Иону от солнца, и «Иона весьма обрадовался этому растению»[132]. Однако наутро Господь устроил так, что растение засохло. Задул «знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить»[133], – то же самое, что говорил и раньше[134], тем самым указывая, что смысл притчи – тот же, что и в первой части книги. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»[135]
Грешники эти, язычники – и даже скот, им принадлежащий, – такие же твари Божьи, что и евреи. Это поразительное и оригинальное наблюдение, особенно учитывая датировку написания истории – VIII век до н. э. (во времена Гераклита). Но такова в итоге вся суть того, чему раввинам нужно учить. Если вообще должна существовать справедливость, то – для всех. Никого нельзя исключать, иначе справедливости попросту не будет. Вывод неизбежен. Эта крохотная книга, рассказывающая нелепую и даже комическую историю Ионы, в литургии занимает центральное место: каждый год ее читают в синагоге на Йом Киппур, День искупления – самый торжественный праздник еврейского календаря. Ибо всё, как уже отмечалось, взаимосвязано со всем остальным. А если есть всё, то, значит, есть и все. О. не забывает последние слова Ионы: «Очень огорчился, даже до смерти». И все же он понимает, что пишет эти слова на странице, лежащей перед ним. Если есть всё, то, значит, есть и все.
* * *Слова созвучны, и даже если меж ними нет всамделишней связи, он не может не думать о них вместе. Покои и упокой, гроб и утроба, каморка и мор. Вздох и сдох. Или что буквы в слове «лоза» можно переставить, и получится «зола». Он знает, что это всего-навсего школярская игра. Однако удивительно: пишет слово «школяр» – и вспоминает себя восьми– или девятилетним и то внезапное ощущение силы внутри, когда он осознал, что может так вот играть со словами: он как будто обнаружил тайную тропу к истине – абсолютной, универсальной и неколебимой истине, на которой зиждется весь мир. В своем школярском восторге, конечно, он не удосуживался учесть существование других языков, не только английского, – того великого Вавилона языков, что жужжат и сталкиваются в мире за пределами его школьной жизни. А как абсолютная и неколебимая истина способна меняться от одного языка к другому?
И все равно нельзя отрицать силу словесных созвучий и рифм, преобразований слова. Остается это ощущение волшебства, даже если его никак не связать с поиском истины, и та же магия, те же соответствия слов присутствуют в любом языке, хотя частные их сочетания могут различаться. В сердцевине каждого языка – сеть рифм, ассонансов и пересекающихся значений, и каждый такой случай – некий мостик, соединяющий друг с другом противоположные и противоречащие аспекты мира. Язык, стало быть, – не просто список отдельных вещей, которые нужно сложить друг с другом – и выйдет общая сумма, равная миру. Скорее язык таков, каким он разложен в словаре: бесконечно сложный организм, все элементы которого – клетки и жилы, тельца и кости, пальцы и жидкости – представлены в мире одновременно, и никакой не может существовать сам по себе. Ибо каждое слово определяется другими словами, а это значит, что вступить в одну часть языка – это вступить в него целиком. Язык, следовательно, – как монадология, если заимствовать понятие, предложенное Лейбницем. («Ибо так как все наполнено (что делает всю материю связною) и в наполненном пространстве всякое движение производит некоторое действие на удаленные тела по мере их отдаления, так что каждое тело не только подвергается влиянию тех тел, которые с ним соприкасаются, и чувствует некоторым образом все то, что с последними происходит, но через посредство их испытывает влияние и тех тел, которые соприкасаются с первыми, касающимися его непосредственно, то отсюда следует, что подобное сообщение происходит на каком угодно расстоянии. И следовательно, всякое тело чувствует все, что совершается в универсуме, так что тот, кто видит, мог бы в каждом теле прочесть, что совершается повсюду, и даже то, что совершилось или еще совершится, замечая в настоящем то, что удалено по времени и месту… Но душа может в себе самой читать лишь то, что в ней представлено отчетливо; она не может с одного раза раскрыть в себе все свои тайны, ибо они идут в бесконечность»[136].)