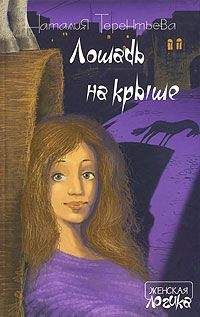Ника Батхен - Дары Кандары
увидеть, вы такого не видели никогда!». От трико Арлекина пахнет потом и смехом. Пёс Арто скребёт лапой
ненавистную юбочку. Обезьянка Жужу подкрадывается к кувшину – если не отследить, то к концу
представления эта мартышка налижется, словно заправский пьяница. У Кормилицы красные щёки и след
поцелуя на шее. А за занавесом, в первом ряду ярмарочной толпы – сияющее лицо юноши с родинкой у
верхней губы.
– Ты бессмертен, бес Леонард.
Юноша грациозно поднялся – вместо страшного балахона на нём оказались парчовый камзол, белые
панталоны и расшитые туфли с пряжками.
– Конечно, радость моя. Я живу столько лет, что твоей очаровательной головёнке невозможно даже
представить это число. Я привык и уже не скучаю.
– Ты бессмертен. А мы – нет. Ты хотел вытащить из тюрьмы своего Эмиля, порочного злого
мальчишку. Мы пошли за тобой, как один, вся труппа – разве можно отказать благородному, щедрому и
весёлому духу праздника Карнавала? Мы сыграли со смертью и выиграли, помнишь? А наутро в балаганчик
явилась стража. Знаешь, что такое тюрьма Святого Престола, ты, бес? – Паола судорожно вздохнула, –
Эмиля ты спас. И меня уволок за шкирку с костра. Остальные – все, все!!!
– Ты ревнуешь меня к этому сорванцу, Пьетра? Оставь, никто не может с тобой сравниться, –
Леонард осторожно сел рядом с плачущей Паолой, сдвинул чепец, начал гладить седые волосы. Удивлённая
луна наблюдала, как под чуткими пальцами старое серебро превращается в бесстыже яркую медь. Леонард
коснулся лица монахини – и кожа разгладилась, розовея, словно свежий цветок… Звон колокола заставил
беса отпрянуть. Паола вскочила, её трясло.
– Изыди, дьявол, убирайся к себе в преисподнюю!
– Когда Фьяметта насыпала жгучий перец в твой грим, ты ругалась куда изящней, – тонкий стан
Леонарда изогнулся в шутливом поклоне, – трижды ты звала меня, и я приходил. Теперь я волен трижды
позвать тебя. Третий счастливый. Смотри!
На ладони у Леонарда лежала роза. Бутафорская, тряпочная красная роза – сколько поколений
Коломбин надевало её, играя фарсы дель арте? Беглянке из женского монастыря, хулиганке и безобразнице
Пьетре было почти семнадцать, когда она в первый раз закрепила цветок в кудрях. Целую жизнь, полную
солнца, аплодисментов и поцелуев, она выходила на булыжники и подмостки, выходила всегда босиком. И
играла…
Паола вцепилась в пыльную розу, словно роженица в младенца. Леонард рассмеялся – звонко, будто
бы хрустальные шарики сыпались по серебряной крыше.
– Приколи её к волосам радость моя, но прежде уколи палец шипом. И останешься рядом со мной –
вечной спутницей, вечной актрисой бессмертного карнавала. Пока солнце не коснётся лучом часовни, у тебя
есть время подумать, решай. Я…
– Не надо, Леонард. Правду ты говоришь или лжёшь – есть слова, с которыми не играют даже в
театре. Я подумаю до рассвета, у меня ведь ещё есть время? – протянув руку, Паола легко погладила
бархатистую, словно персик, щеку беса.
– Ту улыбаешься так же как прежде, годы не властны над истинной красотой, радость моя. И знай –
что бы ты ни выбрала – ты лучше всех. Клянусь звездой балаганщиков и глупцов – такой актрисы я не
встречал и не встречу, помнишь – ты вставала с колен и говорила «Чудо…» и зрители верили, будто твой
Арлекин и в самом деле воскрес.
– Льстец. Ступай! Слава богу мои невесты даже не представляют, с кем я веду беседу.
– Это был бы чудесный фарс – монахини пользуют сирых и страждущих, а настоятельница в это
время целуется с чёртом.
– Ну уж нет. Ты забыл, как щедра я была на хорошие оплеухи? До свиданья, мессер Леонард, – Паола
развернулась и неторопливо пошла назад – за надёжные стены обители. Молодое, звенящее «Прощай,
Пьетра» заставило её вздрогнуть, но не ускорило шага. Влажный воздух был полон запахов – винограда и
театрального грима, пирожков с печёнкой и пива, дорожной пыли и шуршащего шёлка нового платья.
– Матушка!!! – истошный вопль сестры Гонораты вернул Паолу на землю, – матушка, стыд какой!
– Тихо, сестра. «Отче наш» про себя – и рассказывай.
– Послушница наша новенькая, Кларета! Остроносая, рыженькая такая. Она!
– Что она? Варенье из кладовой утащила? На мессе заснула? Тебя дурой назвала?
– Не спалось мне, матушка, решила сходить в часовенку помолиться. Шла мимо виноградничка, глядь
– кусты шевелятся. Заглянула – а там Кларета и паж госпожи Флоримонды, ой, матушка... – Гонората
нацелилась выть.
– Значит так, – Паола сняла с пояса связку ключей, – пойдёшь сейчас в кладовую и возьмёшь два
лимона. Один съешь сама, чтобы впредь крепче спалось, другой Кларете скорми, чтобы не так сияла. Она
ведь не постриженная ещё?
Удручённая Гонората покачала головой.
– Вот и славно. Значит женим. Ступай. И запомни – и другим закажи – я молиться пошла за
страждущих и убогих. Кто меня до утренней мессы побеспокоит в храме – год без перерыва в богадельне
горшки выносить будет.
Гонората охнула и, переваливаясь как утка, побежала в кладовку. Паола же отправилась в храм.
Убедилась, что никому больше не приспичило помолиться посреди ночи. Закрыла двери и заложила
засовом. Трижды прочла «Отче наш». И только потом разрешила себе биться лбом о холодные плиты пола,
стучать о камни бессильными кулаками.
…Ей было пятнадцать – сироте, неизвестно чьей дочке. Дважды в год для неё в монастырь привозили
подарки – чудных кукол, прелестные молитвенники, тонкое бельё и тёплые плащи из причудливой
крашеной шерсти. И деньги, много – поэтому ли или за особую чуткость ума, аббатиса выделяла юную
Пьетру и наставляла её отдельно – в чтении и шитье, рисовании буквиц и лечении ран. Дважды в год Пьетра
надеялась – вдруг объявится мама или отец и заберут её в чудный, широкий мир. Всякий раз надежды
оказывались тщетны, она взрослела и аббатиса всё настойчивей начинала вести беседы о будущем
пострижении.
Неожиданно, ниоткуда стали приходить письма. Чудесные поэмы, игривые и фривольные, нежные и
пронзительные. Они не требовали ответа, они ничего не хотели – просто оказывались по утрам под
подушкой. В конце стояла печать карнавальной маски и подпись «мессер Леонард». Она думала – это её
отец. И однажды, головокружительным майским днём спрятала под рубашкой свои драгоценности –
золотой крестик, жемчужные чётки и пачку писем, перелезла через калитку и сбежала. По счастью ей
повезло в тот же день встретиться с труппой бродячих комедиантов. Актёры не ограбили её, не принудили к
скверному, наоборот – пожалели и дали место в повозке. И покатилось…
Мессер Леонард объявился спустя полгода. Он выглядел таким юным, что Пьетре даже стало смешно
– как этот золотой мальчик мог стать её отцом? Но с первых бесед она почувствовала – мессер Леонард
слишком опытен и умён для своих видимых лет. Он наставлял её в театральном искусстве и театральных
законах, учил играть и держаться на сцене, наряжаться и танцевать. Он водил её по кабачкам – отплясывать
на столах, кутить с контрабандистами, и, прикрыв лицо маской, вытаскивал на приёмы в графских домах –
посмеяться над благородными донами. В Праге он показал ей тень старого Голема и тень ребе Бен Бецалеля,
а в Тулузе открыл, где покоится святая Мария из Магдалы. Он приходил к каждой премьере и любовался ей
и восхищался, облекая восторг в стихи и пьесы для любимого театра… Пьетра так ни разу и не спросила кто
он – однажды мессер признался, будто он дух вечно живого Карнавала, но это выглядело лишь одной из
множества его шуток.
Шли годы, она играла всё лучше. Подруги по труппе уже начали перешёптываться – почему это в
тридцать Пьетра выглядит так же молодо, как и в семнадцать? А она не хотела задумываться – слишком
нравилось менять маски и проживать заёмные жизни – по две или три в день, слишком дорого стоили
аплодисменты и восторг на лицах толпы. Пьетра чувствовала, что способна заставить их плакать или
смеяться и хмелела от этого, как выпивоха от хорошего коньяка. Театр был её мужем, отцом, сыном и
Богом. Земной любовью, мимолётным актёрским флиртом она любила таких же шальных бродяг. Мессер
Леонард оставался денницей, звездой, блеск которой всегда согревает взор.
А потом он их предал. Всю труппу – малышку Неле и старого Арлекина, зануду Бригеллу и тощего
Панталоне, грудастую Кормилицу, великана Солдата и задаваку Жанно. Они ждали, надеялись до
последнего, что мессер Леонард не бросит своих друзей. А он подкупил стражу, чтобы вместо неё, Пьетры,