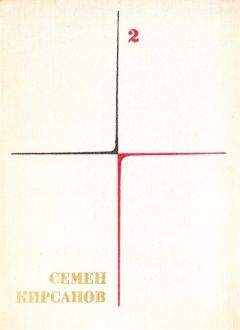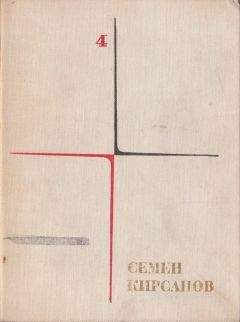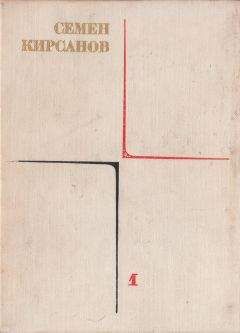Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 2. Фантастические поэмы и сказки
Граф Джераф советует в Карловы Вары, барон Ван-Брон полечиться бобром, герцог твердит, мол, полезны отвары, князь Освинясь — медицейскую мазь… Молчит лишь судья Адья.
На столе ни еды, ни питья, ни варенья. Одни говоренья.
И пускай говорят! Как говорится, надо дать голове поварить, поговорить, выговориться, да не проговориться. А кто вперекор проговаривается — тот судьею к статье приговаривается: бери узелок и — адье! Говорить — не пироги варить. А всего не переговорить.
Наговорились кто сколько хочет. Пора и кончать. Граф Агрипп звонит в колокольчик, кладет на бумагу печать.
Так сказать, начинается вынос:
— Вы нас, мы вас, Ваше Величество, любим. Вы наш отец, мы ваши люди. А роду конец. И где тот птенец, что наденет отцовский венец? Как ни сетуй — нетути. А раз так, надо звать на царствие Рюриха из города Цюриха. Он-то плодиться мастак. И мы, холопья вернейшие ваши, припадаем к стопам августейше-монаршим, спину гнем под меч или бич, верноподданно молим подписать отречение, браду постричь, корону сдать под квитанцию и, того опричь, отбывать на дожитие в страну Иностранцию, инкогнито, как никто. Вот — наш нижайший совет. Но — что скажет Тайный Совет? Мы — человек служащий, ваши указы слушающий.
А судья-то ключом бренчит, от тюрьмы. За дверьми — стража. Страшно. Пики. Пищали. В башне темно, кромешно. И, конечно, графья закричали:
— Ваше Сиятельство! Вы — что мы! Из одного из приятельства, кого прикажите — низложим. На кого — укажите — корону возложим. Попрем старика.
Плавит Агрипп для печати сургуч, горяч да тягуч. Поелику царь малограмотен, пишет Ван-Брон за него на пергаменте: мы, мол, велим Рюриха звать и всю его знать.
Членам уже охота зевать, тянет к ужину тайную дюжину.
Перо из гуся судья очинил, Питирим освящает склянку чернил, как вдруг затряслось помещенье от стука. Что за штука? А штука-то вот какая.
Верь не верь — распахнулась дубовая, с вензелем, дверь. Ведомо богу, какими путями, а в залу бежит мужик, следит по паркету лаптями. Два гренадера с пищалями кричат позади:
— Осади! Сказано, чтоб не пущали мы! Стой!
Да поздно.
А бежит мужичонка простой, в шапчонке из собачонки. Нос тычком, волоса торчком. Кем зван? Кем послан?
Судья Адья аж выронил ключ, граф обжег персты об сургуч, ляпнул барон на пергаменту кляксу.
А мужик-то бежит, рван и нищ, бить челом эксвеличеству Максу.
Вот уже бухнулся у голенищ!
Ван-Брон его за зипун, а мужик обернись да плюнь, Питирим его за портки, а тот его пяткой ткни, Освинясь бы схватил за лапоть, да боится мундир заляпать. Факт — срывает торжественный акт.
Челобитье не чаепитье — верноподданный раз настаивает, значит, важное дело есть. Хочет душу царю отвесть, лобызает подол горностаевый.
А царь-то пока еще царь. Не вошло еще в силу решение, только держит перо от гуся. Под указом имеются все подпися, а вот крестик царя не стоит. Подождет отречение. Встать велит мужику:
— А какое твое мужиково прошение? В чем оно состоит?
Встал мужик, перед величеством стоит. Из очей он слезы слезные струит. Из-за пазухи он вынул инструмент, быстро пальцами забренькал по струне:
— Эх ты гой еси, великий государь,
сапогом меня по темени ударь,
в кандалы меня железные закуй,
заточи меня в далекий Верхотуй,
только, царь, не отправляйся на покой,
не подписывай бумаги никакой,
а послушай ты холопьего гонца,
не сдавай злодею Рюриху венца.
Мы при нем, твои холопы, перемрем,
никакого нет житьишка нам при нем,
и ни хлебушка, ни редьки натереть,
и тебе нет интереса помереть.
Снаряжай-ка ты карету и коня,
посади ты вместо кучера меня,
мы жену тебе красавицу найдем,
ребятишек народится полон дом
Есть такая во Камаринском селе,
груди — во, что караваи на столе,
очи — во, и руки — во, и щеки — во,
и доселе не водила никого.
Тут пошел мужик плясать перед царем, бросил царь свою пергаменту с пером. Топнул об пол да и вышел из хором, стал он снова, как бывало, царь царем. Грозно крикнул он: «Карету подавать! Да коней поаккуратней подковать!» Рот разинул их сиятельство Агрипп, крикнуть силится, а голосом охрип. Царь по лестнице по мраморной идет, мужичонку рядом за руку ведет.
— Эх ты, сукин сын, камаринский мужик,
кровь по жилочкам, как смолоду, бежит —
груди — во, и руки — во, и щеки — во,
и доселе не водила никого!
Эх, невесту посмотреть бы поскорей,
народить от ней царевичей-царей.
Сел в карету грозный Макс-Емельян. Моложав и румян. На запятках арапчата, в красных туфлях и перчатках, а на козлах Фадей. «Гей!» — кричит на лошадей. Понеслись терема, и дворец, и тюрьма, и поля зашелестели, засвистели свиристели, кулики, перепела, в речке рыба поплыла, удят рыбу рыбаки, замычали быки, стали козы блекотать, — и такую благодать, что ли, Рюриху отдать?
За какой интерес?
Дудки!
И въезжают в темный лес на вторые сутки.
Магарыч за это с вас.
А за сим — третий сказ.
Сказ третий
Есть бор, да еще бор, яр, да еще яр, река, да еще река, а по-за тем яром, тем бором, той рекой — есть лес ельник, ольшаник, осинник.
И есть там пустынный покой, и есть в том покое пустынник, веры незнамо какой.
Имя есть ему Влас, имеет над тварью кудесную власть, над чем помавает рукой — то родится и дивно плодится, хоть гусь, хоть лось, хоть карась, А вчерась исцелил он корову яловую.
Плачет баба, исходит жалобою — давно бы дитятю дала бы, а лоно — оно не полно. Кручинится мученица.
А пустынника если попросят, приведут, подведут — стань, болезная, тут, — он перстами бесплодного лона коснется, глянь — она и на сносях, скоро нянчить дитя разлюбезное.
Тварь порожней пройдет перед Власовой хатою, а уйдет сужеребой, суягней, брюхатою.
Влас сидит на пеньке у окошка, лукошко вьет.
А у пят толпятся опята, ребята грибные, сынки — подосиновики, внуки — боровики, здоровяки. Глянет — и новенький гриб, круглоголовенький, встанет.
Бросит Влас полосатое зернышко, а наутро подсолнух, как полное солнышко, привстает из низи, и утыкано семенем донышко, выбирай и грызи!
Пальцем тыкнет — брюхатятся тыквы аль арбузы.
Лишь моргнет, и стрельнет горошком стручок — ровный, как жемчуг перебранный.
А собою простой старичок. Бородою струится серебряной и смеется губами.
Так и живет. Хлеб жует, щи хлебает с грибами.
Было присел у крыльца — прутья вить. А на ветках витьвикает певчая тварь: «Царь, царь, удивить, удивить!»
И жук-золотарь жужжит: «Женим, женим, со всем уваженьем».
И верно, — возраст помеха ли?
Вот и приехали царь и мужик. Тот шапчонку сорвал, тот корону, что ли, в ноги упасть?
Только Власу поклоны не всласть, ни к чему ему власть. Усадил он царя на колоду, зачерпнул ему ковшиком квас, угостил его коржиком из крупитчатой ржи и изрек вроде так:
— Ты, брат, царь Макс, не тужи, не снимай венца с темени раньше времени. Ходили ко мне и постарше. А как ты с дороги уставши, ложись-ка сюда поспать под ольху. Тут у нас не расставлена мебель. На своей бороде, что на птичьем пуху…
И растаял, как небыль.
Только пень посреди, весь во мху.
А сам — невидимкой стоит у сосны, насылает на Макса летучие сны. Зелье поваривает, заговаривает!
Вы летите, соничи,
на глаза на старичьи,
сонники, заспатаи,
крепкоспаи, снатаи,
азвевайте царичьи
худосны и суесны.
Сонири, соневичи,
навевайте любосны,
досыпа, до просыпа
сните сны-молодосны.
Снавься, Сонышко Всеснявин,
от уснявин до проснявин!
Сны-всеснаики, сонари,
соноумы, сонодумы,
усыпатели спросонья,
снитесь, сонные снири.
Спамо дело, снопыри,
вы подсоннечную сонню
спать успите до зари.
Красно-сон, зелено-сон,
желто-сон, голубо-сон!
Царь-сонница, дева-снарь
пусть тебе приснится, царь!
Дан сон,
сон дан!
Радужным сном одолен Макс, государь Емельян. Хорошо под ольхою. И занятие сон не плохое. Ах, как мягко!
Спит, ладонь под щеку подложа. И не дряхл! Ликом стал моложав, будто отрок в снежных кудрях, бородатый, хороший, другой.
А рядом — бугор, весь травою заросший.
Видит царский внутренний взор, как травинки в земле раскручиваются, учатся, как расти. Трутся о камешки корешками — воду, соль запасти. Выбрались в воздух зеленые прутьица. Глядь — надулся росток и расправился и уставился в ясный восток. И хотя у ростка невысокий росток, а статный на зависть!