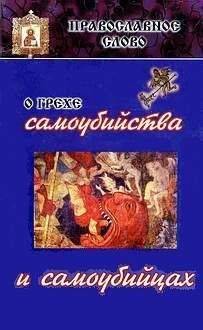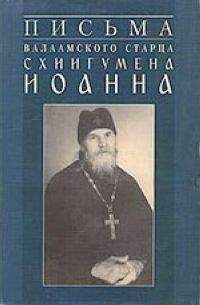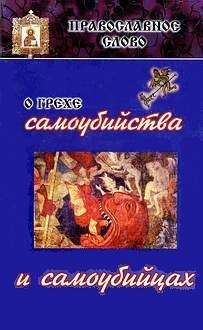Андрей Шляхов - Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза
– Это надо же такому случиться, чтобы в центре Москвы на демонстрации немец встретился с немкой! – удивлялся Ганс. – Нет, ты можешь думать что хочешь, но это die Vorsehung, провидение!
– Коммунисты не верят в провидение и судьбу! – поддевала Татьяна.
С Гансом она чувствовала себя на удивление легко, несмотря на то, что он был старше ее и держался очень серьезно.
– Солидный человек, – одобрил нового знакомого дочери Иван Романович.
Ганс был удостоен великого доверия – ему, коммунисту, рассказали родословную Пельтцеров со всеми подробностями. Оказалось, что в роду у Ганса тоже изрядно буржуев, но ведь это ничего не значит. Главное – каков сам человек.
– Это тебя, Танюша, Божья рука привела на карандашную фабрику, – говорил Иван Романович. – Если бы ты там не работала, то не декламировала бы на демонстрации и не встретилась бы с Гансом…
Татьяна смеялась. Ей казалось, что отец говорит глупости. Они с Гансом непременно бы встретились, потому что просто не могли не встретиться. Не на демонстрации, так в театре, не в театре, так просто на улице бы столкнулись… Ганс прав. Это – die Vorsehung. Поэтому-то ей раньше никто не нравился. Она, сама того не сознавая, ждала встречи с Гансом.
Ганса интересовало все, что было связано с Татьяной, и чувствовалось, что интерес этот искренний. Узнав, кем она работает, он захотел посмотреть на репетицию драмкружка. Татьяна долго отнекивалась, но Ганс все же настоял на своем. Татьяна ожидала, что в лучшем случае он будет смеяться, а в худшем – скажет, что она занимается чепухой, но вышло наоборот. Увидев репетицию драмкружка, Ганс пришел в восхищение. Сказал, что был счастлив увидеть подлинно народный театр, наговорил Татьяне кучу комплиментов и напросился на очередную премьеру. Татьяна сделала для себя два вывода. Первый – Ганс, кажется, любит ее по-настоящему. Второй – Ганс ничего не смыслит в театральном искусстве. Первый вывод был стократ важнее второго. Любого человека можно научить понимать театр, было бы желание.
Солидный и очень серьезный Ганс в глубине души оказался романтиком. Читал Татьяне по памяти стихи немецких поэтов, говорил комплименты, от которых захватывало дух, и то и дело повторял:
– Я – твой Тристан, а ты – моя Изольда!
– Никакого сходства! – смеялась Татьяна. – У Тристана с Изольдой все закончилось печально, а у нас все будет хорошо!
– Чем закончится, поживем – увидим, – рассудительно отвечал Ганс, – но любовь наша столь же велика, как у Тристана с Изольдой.
«Тристана и Изольду» когда-то давным-давно ставили у Синельникова. Тринадцатилетняя Таня мечтала сыграть Изольду, но мечтам этим суждено было сбыться только много лет спустя…
Мечты сбываются.
Мечты всегда сбываются.
Только порой они сбываются не так, как хочется.
Но с этим уже ничего не поделаешь.
Глава двенадцатая
Афины на Шпрее
Но грешники – безгрешны покаяньем,
Вернуть любовь – прощение вернуть.
Но как боюсь я сердце обмануть
Своим туманно-призрачным желаньем…
Игорь Северянин, «Вернуть любовь»Послушать Ганса, так Берлин – лучший город на свете.
– Берлин! – Произнося это слово, Ганс непременно закатывал глаза и покачивал головой. – О, что это за город! Афины на Шпрее!
Вблизи Афины на Шпрее выглядели совсем не так, как представлялось Татьяне из Москвы. Да – большой город. Да – красивый. Но какой-то, черт его побери, чужой. Несмотря на отсутствие языкового барьера, пятьдесят процентов немецкой крови и мужа-немца, Татьяна чувствовала себя в Берлине чужой. А ведь до приезда сюда она считала, что способна быстро осваиваться в любом месте. В скольких городах ей довелось пожить, и повсюду она быстро привыкала к месту и населявшим его людям. Даже в Нахичевани-на-Дону она не чувствовала себя так, как в Берлине. В Нахичевани театр был гадкий, недружелюбный, злой, а город был вполне себе ничего. Город как город, люди как люди… Возможно, дело в том, что родители и брат были рядом? Где семья – там дом, разве не так? Но в Берлине у нее муж!
Муж, объелся груш… Как-то так.
Перед регистрацией, на которой настоял Ганс, потому что в Германии признавался только оформленный документально брак[58], папаша прочел Татьяне длинную нотацию о семейной жизни. Прежде он ей никогда никаких нотаций не читал, а тут вдруг разобрало. Вообще-то такие нотации девушке должна читать мать, но Евгения Сергеевна не собиралась этого делать. Познакомившись с Гансом, она сказала Татьяне только: «Тебе с ним жить». На свадьбу не пришла, сослалась на нездоровье. Татьяне было немного неловко из-за этого перед Гансом, но тот рассмеялся и сказал, что на свадьбе непременно положено быть невесте, а не ее матери.
Иван Романович говорил дочери о том, что семейная жизнь это не только мед, хрен тоже попадается, что очень важно любить человека таким, каков он есть, потому что изменить его невозможно, можно только разлюбить, о том, что после нескольких месяцев семейной жизни многое начинает выглядеть совсем не таким, каким казалось раньше… Короче говоря, снимай-ка, Танюша, розовые очки, чтобы видеть вещи такими, какими они есть.
Татьяна и без папашиных нотаций понимала, что хрена в семейной жизни предостаточно. Не маленькая уже – двадцать три года. Насмотрелась. В том числе и на собственных родителей. Мать вечно пилила отца, тот ей постоянно изменял. «Я всем пожертвовала ради этого человека! – порой восклицала мать. – Даже крестилась, чтобы выйти за него замуж! А он…» Ведь она когда-то же любила отца, если ради него сменила веру. Куда исчезла любовь?
Татьяна решила, что сама она своего Ганса никогда пилить не станет. Если что-то не нравится, можно сказать об этом без ворчания. Тем более что Ганс все понимает и вообще он замечательный… Перед свадьбой Татьяна все же (не иначе как под впечатлением папашиной речи) попыталась взглянуть на Ганса без розовых очков. Вроде бы показалось, что у нее получилось сделать это. А на самом деле нет. Розовые очки невозможно снять по собственному желанию. Они спадают сами. Влепит тебе жизнь хороший подзатыльник – и вот очки уже рассыпались по полу осколками…
«Подзатыльником» стала фраза Ганса: «Так будет лучше» – сказанная по поводу бесплодия жены. Таня долго надеялась на то, что ее проблему врачам удастся решить, но уж когда сам профессор Малиновский, светило из светил, развел руками и сказал, что медицина здесь бессильна, надежды растаяли. Было очень горько, потому что детей хотелось сильно. Мальчика и девочку, а то и троих. Татьяна нуждалась в утешении и получила его, но это было совсем не то, чего она ожидала.
Она ожидала услышать, что Ганс любит и будет любить ее вне зависимости от того, родятся ли у них дети, что в Берлине (отъезд уже был не за горами) он покажет ее немецким профессорам… Каким бы светилом ни был Малиновский, он все же человек, а людям свойственно ошибаться. Но Ганс сказал только: «Так будет лучше». Понимай так – дети при моей работе лишняя обуза.
Когда очки слетели, Татьяна обратила внимание еще на одно обстоятельство. Романтический рыцарь революции, а именно таким представлялся ей Ганс, оказался далеко не романтическим, а вполне себе меркантильным. Уж с очень выраженным удовольствием произносил он фразу: «Кто был ничем, тот станет всем»[59]. Без розовых очков нетрудно понять, что революционером Ганса сделала не любовь к справедливости, а желание сделать карьеру. Представителю бедной ветви рода Тейблеров светила не самая привлекательная перспектива долгого (и медленного!) подъема по иерархической лестнице. И что в итоге? Должность Direktor Ingenieur[60] на какой-нибудь фабричонке? О нет! Ганс Тейблер не из тех, кто разменивает свою жизнь на медные гроши! Ему подавай побольше и поскорее! В мечтах он видит себя секретарем Германской компартии, причем не подпольной, а стоящей у власти!
Татьяна не была пламенной революционеркой, но зато она была идеалисткой и приняла революцию через этот свой идеализм. Да, много крови и много страдания, но все это происходит во имя всеобщего равенства и торжества справедливости. Неправильно же, когда одни просят милостыню, а другие купаются в золоте. Неправильно же, когда офицеры прилюдно бьют солдат по лицу, а те тянутся во фрунт и даже не имеют права закрыть лицо руками. И вообще в той прежней жизни было так много неправильного… В нынешней этого неправильного тоже хватает, но с каждым днем его становится все меньше и меньше, потому что страна движется к светлому будущему.
Свадьба, которую сыграли спустя год после знакомства, в ноябре 1927 года, совпала с грандиозными торжествами по случаю десятилетия Октябрьской революции. Свой первый юбилей советская власть отмечала с невероятным размахом. Всеобщее ликование (искреннее, надо заметить, ликование, потому что жизнь становилась все лучше и лучше) совпадало с настроением Татьяны. Она ощущала себя невероятно счастливой, настолько счастливой, что даже трудно было поверить в то, что это происходит с ней наяву. Членам драмкружка, который к тому времени уже стал фабричным театром, было поручено поставить пьесу из жизни Ленина. Стихов о вожде было написано великое множество, а вот с пьесами дело обстояло плохо. Пришлось обратиться к отцу. Иван Романович спросил, о каком периоде жизни Ленина следует писать. Татьяна выбрала 1895 год (биографию Ленина все знали наизусть, как катехизис[61]) – год создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»[62], который Ильич создавал вместе с Надеждой Крупской. На просьбу «немного оживить» пьесу отец понимающе улыбнулся и сделал все как надо – с человечинкой, с чувствами, но без уклона в буржуазную пошлость. Крупскую Татьяна сыграла сама, утвердили ее на эту роль единогласно. Спектакль показывали не у себя, а в клубе Электромеханического завода имени Владимира Ильича, который большинство народа и на десятом году революции называло по старой памяти заводом Михельсона. Татьяна невероятно волновалась – не подвели бы ученики – но все прошло замечательно. За два с лишним года ей все-таки удалось собрать и воспитать более-менее сносный актерский коллектив. Несмотря на все, как сказали бы сейчас, пролеткультовские «закидоны». Ганс сидел в первом ряду, хлопал громче всех и громче всех кричал «Браво!».