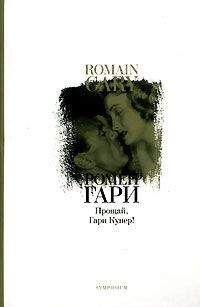Михаил Каратеев - Русь и Орда
Из всего необъятного улуса Джучи лишь Хорезм не подчинился Тохтамышу и сохранял пока независимость. Но эта независимость была только видимой, ибо там почти открыто распоряжался Тимур. Хорезмшах Юсуф Суфи, – сын умершего в 1372 году Хуссейна, – после нескольких крайне неудачных для него вооруженных столкновений понял, что он не в состоянии воевать со столь могущественным соседом, а потому, чтобы возможно дольше сохранить за собой престол и уберечь свою страну от напрасных разорений, превратился в покорного исполнителя воли Тимура.
Все это хорошо знал Тохтамыш и потому со своей стороны на Хорезм пока не посягал. Он отнюдь не собирался уступить кому-либо эту богатейшую страну, прежде входившую в состав Золотой Орды, но раньше, чем приступить к действиям, которые могли повлечь за собой войну с Тимуром, ему нужно было хорошо укрепить свои собственные силы и, прежде всего, добиться полной покорности Руси, что было нелегко после ее блестящей победы над татарами на Куликовом поле.
Правда, великий князь Московский с честью принял его послов и прислал богатые подарки, но о том, – продолжает ли он считать себя татарским данником, не сказал ни слова и дани пока не присылал. Ордынцы же, по тем или иным делам ездившие на Русь, привозили оттуда плохие вести. Их встречали совсем не так, как прежде: никто не обнаруживал перед ними былого страха или хотя бы уважения, но, наоборот, – им говорили дерзкие речи, открыто насмехались, а бывало и били. И потому Тохтамыш решил, не останавливаясь перед крутыми мерами, навести на Руси порядок и обеспечить себя от возможных неожиданностей со стороны Московского князя, который, судя по всему, совершенно перестал считаться с Ордой.
Ставку свою Тохтамыш держал теперь в Сарае-Берке. Сюда же перевез из Ургенча свою семью и неотлучно находившийся при нем Карач-мурза-оглан. Собственно, перевозить ему пришлось только жену, так как оба сына его уже служили в войске. Свое боевое крещение они получили в битве с Мамаем на реке Калке, где семнадцатилетний Рустем отличился такой распорядительностью и столь беспримерной отвагой, что Тохтамыш тут же поставил его тысячником и с той поры относился к своему старшему племяннику с исключительным благоволением.
Милостями был осыпан и Карач-мурза: в числе четырех знатнейших ордынских царевичей он был назначен в состав ханского дивана [364] , ему был подарен дворец в Сарае, а к улусу его присоединены обширные земли, до самого Иртыша, с городами Чамга-Турой, Бицик-Турой и Искером [365] , что превращало Карач-мурзу в одного из самых крупных владетельных князей Орды [366] . В его подчинении находилось несколько туменов войска, хотя Тохтамыш чаще пользовался им не как военачальником, а как доверенным лицом для исполнения особо важных дипломатических поручений.
Летом 1381 года у Тохтамыша как раз возникла надобность отправить посла к Московскому князю Дмитрию, которого он решил вызвать в Сарай, чтобы тут потребовать у него повиновения и дани. Вначале он хотел поручить это посольство Карач-мурзе, но, поразмыслив, раздумал: посол должен был по пути нагнать страху на чересчур осмелевший русский народ и беспощадно карать за малейшее проявление непочтительности к татарам, а приехав в Москву, – разговаривать с Дмитрием так, как говорили с русскими князьями послы Бату-хана. Карач-мурза не годился для этого как по своему характеру, так и по дружественному отношению к Руси и к князю Дмитрию, которого он от Тохтамыша никогда не скрывал, а потому послом в Москву был отправлен царевич Ак-ходжа, человек, как казалось великому хану, для этой цели вполне подходящий. Для большей внушительности его сопровождали несколько других ордынских князей и отряд отборных нукеров, численностью в семьсот человек.
По повелению Тохтамыша Ак-ходжа-оглан, прежде чем явиться в Москву, должен был посетить Рязанского и Нижегородского князей, владения которых граничили с Ордой, и под угрозой опустошения их земель потребовать безоговорочного подчинения воле великого хана, даже в случае его войны с Московским князем.
Въехав в Рязанскую землю, ханский посол сразу заметил, что население встречных сел и деревень настроено по отношению к татарам явно неприязненно. Русские крестьяне, видя многочисленность ордынского отряда, внешне держали себя пристойно и почти ничего, к чему можно было бы придраться, себе не позволяли, но глядели угрюмо и зло, на все вопросы отвечали незнанием, повиновались медленно и с явной неохотой.
По пути отстегав кое-кого плетью и приказав своим нукерам сжечь одну деревню, где при въезде ханского посла люди стояли в шапках, а на приказание снять их ответили, что «ноне Русь перед погаными [367] шапки не ломает», – Ак-ходжа, сильно раздраженный всем этим, доехал до Рязани и сейчас же потребовал к себе великого князя.
Олег Иванович явился тотчас. Он всего месяц тому назад возвратился на свое княжение, признав себя «молодщим братом» Московского князя и поклявшись «руку его ворогов впредь не держать». Но в то же время он панически боялся татар, чуть ли не ежегодно подвергавших его вотчину жестоким опустошениям, и этот почти суеверный страх перед Ордой был главной причиной всех его политических ошибок, столько зла причинивших Русской земле. Даже теперь, после Куликовской битвы, он не верил в то, что Москва способна успешно защищать Русь от татарских нашествий, а так как его княжество лежало на пути этих нашествий первым, – Олег Иванович не хотел рисковать. Он покорно принял разнос от ханского посла, оправдывался как мог и поклялся «всегда быть его пресветлому величеству, хану Тохтамышу, преданным слугой».
Простояв в Рязани четыре дня и получив от Рязанского князя богатые подарки для себя и для великого хана, повеселевший Ак-ходжа тронулся дальше. Но, миновав мордовские земли и вступив в пределы Нижегородского княжества, он сразу понял, что самое неприятное начинается только теперь. За постоянные грабежи и набеги здесь ненавидели Орду особенно лютой ненавистью, но, не в пример рязанцам, нижегородцы обычно в долгу не оставались, отвечая частыми мятежами и беспощадными избиениями татар, проживавших в Нижнем Новгороде или случайно там оказавшихся. Таким образом, особого страха перед Ордой тут и прежде не было, теперь же, после победы на Куликовом поле, все были уверены в том, что ее владычеству над Русью пришел конец. А потому появление вооруженного отряда татар, державших себя с еще большей наглостью, чем прежде, вызывало всеобщее негодование.
В первом же нижегородском селе Ак-ходжу встретили с такой открытой враждебностью, что он приказал бить плетьми всех мужчин, без изъятия, а село разграбить. Но во втором вышло еще хуже. Тут при въезде татар все продолжали заниматься своими обыденными делами, словно бы вовсе не видели ни самого посла, ни его треххвостого бунчука, ни нукеров.
Поведя вокруг сузившимися от гнева глазами, Ак-ходжа остановил их на коренастом мужике, который совсем близко от него, стоя в шапке и спиной к послу, спокойно прилаживал к своему тыну новый кол, взамен старого, подгнившего. По знаку царевича, ехавший за ним нукер подскочил к мужику и ловким ударом плети сбил с него шапку. Но тут произошло вовсе небывалое: мужик размахнулся колом и так огрел им нукера, что тот едва удержался в седле. На него сейчас же набросились четверо татар и, жестоко избив, со скрученными за спиной руками поставили перед послом.
– Как посмел ты, подлый раб, поднять руку на моего воина?! – закричал Ак-ходжа.
– Не стерпел обиды, вот и вдарил, – сплевывая кровь, ответил мужик, когда посольский толмач перевел ему слова царевича. – Пущай и он не дерется: ноне мы Орде боле не подвластны.
– Не подвластны?! Сейчас ты это увидишь! Ты знаешь, что бывает за оскорбление ханского посла?
– Знаю, – ответил мужик, обращаясь к толмачу. – Смерти мне все одно не миновать, так скажи ты своему послу… – и он добавил такое, что толмач в растерянности уставился на него, не решаясь переводить.
– Что он сказал? – нетерпеливо спросил царевич.
– Он сказал… Я не могу повторить этого, пресветлый оглан!
– Говори! – в бешенстве крикнул Ак-ходжа.
– Этот грязный урус, да испепелит его Аллах своим гневом, очень плохо сказал про твою почтенную мать, пресветлый оглан…
Дерзкого мужика по повелению Ак-ходжи посадили на кол, всех остальных перепороли, село разграбили и сожгли. Пока занимались всем этим, спустились сумерки, и отряд расположился на ночлег тут же, на опушке леса, в ста шагах от догорающей деревни.
Ночь прошла спокойно. Но наутро, когда отдан был приказ выступать, к царевичу явился один из десятников и доложил, что из его десятка исчезли два воина. Минуту спустя подошли еще двое и сказали, что у них тоже недосчитывается по одному человеку. Бегство из войска было в Орде крайне редким явлением, и потому Ак-ходжа сразу подумал другое.
– Наверное, всю ночь забавлялись с русскими женщинами и теперь спят где-нибудь в лесу, – сказал он. – Разыскать сейчас же этих похотливых псов и привести ко мне!