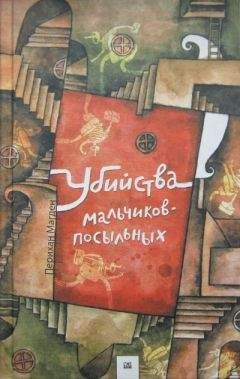Владимир Выговский - Огонь юного сердца
—Читай громче! —командовал дядя.
Но я и без того, вероятно, начал бы читать громко — ведь это наши листовки, их выпускает комиссар Левашов!
Читал я хорошо, медленно, с душой, делая в нужных местах паузу. Мой голос то поднимался, раздаваясь на всю комнату, то резко понижался или на какое-то мгновение стихал.
Дядя сидел рядом и терпеливо слушал. Когда я закончил одну листовку, он подал другую. Только от последних слов:
«Смерть немецким захватчикам!» — которые я прочел громче, дядя немного побледнел и нервно затянулся сигарой. Наконец он не вытерпел, встал и сказал:
—Хватит! Пошли!
В коридоре он набросил на меня плащ, а во дворе приказал сесть в машину. Мы подъехали к гестапо. Но не с парадного входа, как раньше, а почему-то с черного, через двор.
«Вот и все,— горько подумал я.— отвоевался...»
В кабинете, куда мы вошли, сидел штурмшарфюрер СС Фридрих Магденбург и какой-то рыжий незнакомый толстяк в сером гражданском костюме.
—Так это он? — спросил «гражданский», указав на меня сигарой.
—Он, герр гауптштурмфюрер СС,— ответил Крейзель. Гауптштурмфюрер СС, встав из-за стола, подошел к окну
и начал внимательно со всех сторон меня осматривать.
Ну что ж, герр штурмбанфюрер СС,— сказал он,— вид у него и в самом деле подпольщика! А взгляд-то какой!.. Разрешите заняться?
Да. Прошу,— ответил дядя и почему-то похлопал меня по плечу.
«Попался! — мелькнуло у меня в голове.— Это он, собака, выдал...» — И я с презрением посмотрел на штурмшарфюрера СС Магденбурга.
—Взгляд-то какой у него! Прекрасно! — опять воскликнул «гражданский», подойдя ко мне.
Мне было не страшно. Сразу же какая-то апатия овладела мной, и мне было уже все равно, что сделают со мной. Говорят, такое состояние бывает у людей перед расстрелом.
Через несколько минут дядя с Магденбургом куда-то ушли, и я остался с «гражданским».
Выяснилось, что в полицию попалась шестнадцатилетняя комсомолка, которая, распространяя листовки, допустила большую, не свойственную подпольщикам неосторожность: среди белого дня на базаре она раздавала женщинам сообщение Совинформбюро. Но в гестапо девушка мужественно переносила пытки и ни на какие вопросы не отвечала.
Тогда мой дядя пошел на хитрость. Он решил использовать своего племянника в роли провокатора. С этой целью меня переодел и терпеливо знакомил с листовками.
—Мне поручено тебя проинструктировать,— сказал «гражданский»,— ты должен использовать свое положение, мальчик. Комсомолка, наверное, тебе поверит, что ты подпольщик! Ха-ха-ха-ха!.. Взгляд у тебя как раз подходящий. Скажешь ей, что ты распространял листовки. Давал тебе их один малознакомый человек, который работает на заводе или, лучше, в типографии. А вообще, старайся как можно меньше о себе рассказывать. Больше слушай и запоминай. Особенно расспрашивать комсомолку не следует, это сразу же вызовет подозрение. Лучше всего в таком случае ругать гитлеровцев и сочувствовать девушке. Когда у человека горе и ты хорошо к нему относишься, то он становится чутким, доверчивым, разговорчивым... «Друзья познаются в беде»,— гласит русская поговорка!
Я начал возражать — мол, не способен на такую роль, боюсь
и тому подобное. Но гауптштурмфюрер СС — мой инструктор
в «гражданском» — и слушать не хотел.
—Что тут уметь,— сердился он,— ты только начни, а дальше сам научишься. Твой дядя тоже с этого начинал и тоже не умел. А теперь вон какой человек — криминаль-комиссар и штурмбанфюрер СС! Самым высоким орденом награжден. Такое звание и награду не каждому в Германии дают!
Чтобы не вызвать к себе подозрения, пришлось покориться.
Вскоре возвратился дядя и тоже долго меня муштровал. Я делал вид, что слушаю его, а сам думал: «Черта с два, узнаете от меня правду!»
Когда же наконец все мудрые наставления гестаповцев были исчерпаны, меня повели в подвал, где находились тюремные камеры.
—Значит, как было условлено, Петер,— шепнул толстый рыжий гауптштурмфюрер СС, мой инструктор, и, схватив меня за воротник, крикнул солдату: — Открывай пятую, еще один щенок попался!
Солдат открыл камеру №5, гауптштурмфюрер СС бросил меня на скользкий цементный пол и захлопнул дверь.
В камере было полутемно, и я долго не мог рассмотреть девушку, которая приглушенно стонала в углу. А когда мои глаза привыкли к темноте, я чуть не вскрикнул от ужаса. Искалеченная девушка лежала в луже крови, широко раскрытыми глазами смотрела в потолок.
Это была Волошка, Валя Кияико, с которой я летом ходил по селам в разведку.
Валя!.. Она молчала.
Валя! — повторил я снова, склонившись над ней.
—Кто?..
—Это я, Петро Вишняк...
—Ты... Ты тоже тут?! Какое несчастье...
—Я, Валя, понимаешь, временно тут. Я племянник криминаль-комиссара и штурмбанфюрера CС Крейзеля. Меня, понимаешь...
—Понимаю...—- вздохнула Волошка.— Фантазер ты, Петя!..
—Не фантазер, это правда!
—Ну, пускай будет правда,— махнула Валя искалеченной рукой и, превозмогая боль, усмехнулась.
Я начал рассказывать все по порядку, но Волошка вдруг за-стонала и потеряла сознание.
Когда она привстала, я уже не мог отважиться рассказать ей о своем случае с Крейзелем.
Мы поговорили о друзьях-подпольщиках, о солнечных довоенных днях, о школе.
Было бы преступлением омрачать светлые девичьи воспоминания — возможно, последние...
—А правда, хорошо было до воины? — говорила Валя.— Ходишь себе в школу, в кино, в театр. К Днепру бегаешь. Ешь сколько тебе захочется! Ходишь свободно, никакая опасность тебе не угрожает. А мама всегда за меня боялась! Вечно ждала возле перехода, когда я возвращалась из школы. У меня хорошая была мама... Ее тоже в гестапо замучили. Может, даже в этой самой камере...
Вздохнув, Волошка умолкла. Мне казалось, что она плачет, но я ошибся; глаза у нее были сухие. Это была уже не та Валя, которая несколько месяцев назад показала мне кончик языка. Это была не та Волошка, которая могла легко заплакать...
—Вот сижу, Петя, и мне хочется остановить время,— начала она опять,— все часы в мире остановить... Хочется задержать движение солнца, движение поездов и трамваев, движение пароходов и самолетов... Все-все хочется остановить: борьбу на фронте и в партизанах,— страшно не хочется, чтобы без меня жизнь шла своим чередом!.. Я хочу, чтобы все, что движется, идет вперед, не обходило меня, не миновало... Я хочу в борьбе дожить до победы. Хочу быть счастливой среди счастливых!.. Очень жаль, что светлый день победы наступит без меня. Сколько цветов будет!.. А музыка! Мне хочется, чтоб это было весной или в начале лета... Чтоб вокруг цвели наши киевские каштаны и пахло сиренью...
Валя еще долго говорила о счастливом дне и цветах, вспоминала отца, который сражается где-то на фронте, комиссара Левашова, который работает теперь на Галицкой площади часовым мастером... Потом она прочла свое последнее стихотворение:
Можно руки связать,
Можно речь оборвать,
Можно глаза погасить,
Только душу не сломить!..
Можно умереть, но вечно жить!..
Когда меня выводили из камеры, Волошка бредила.
—Мама... Мамочка,— все время звала она свою мать.
Ну, что говорит комсомолка? — спросил меня дядя, как только я переступил порог кабинета.
Ничего не говорит,— ответил я хмурясь.— Она все время бредит.
Dummkopf,— сквозь зубы процедил дядя,— «бредит, бредит». Gehe nach Hause!
Выйдя из гестапо, я быстро нашел часовую мастерскую, где, по словам Вали, должен был быть Левашов. Однако зайти не решался, полагая, что, кроме своих, там могут быть и чужие люди. Некоторый опыт подпольщика подсказал мне, что нужно снять с руки часы, подаренные мне дядей, немного попортить их и зайти.
И в самом деле, Левашов был не один: рядом с ним сидел молодой мастер, склонившись на барьер. Стояла пожилая женщина с мужчиной. Комиссар был без бороды и обрит наголо. Я насилу узнал его...
—Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ремонт? — обратился я к Левашову, протягивая ему часы.
Комиссар усмехнулся глазами, посмотрел на часы и ответил:
Двести марок, мальчик.
А дешевле, дяденька? — начал я торговаться.
Не будет.
Сто пятьдесят даю...
—Иди и не морочь мне голову! — рассердился часовщик.— Я тебе сказал: не будет. Ишь, глупее себя нашел: за сто пятьдесят марок поставь ему маятник. Это не пойдет!
—Ну, сто шестьдесят даю,— добавил я.
Не по-твоему и не по-моему — сто девяносто давай, пацан, и будут у тебя часы.
Сто семьдесят.
Ну хорошо, давай,— наконец согласился Левашов.— Вечером придешь, заберешь.
Как, вам оставить часы?
Ну конечно, а как же?
Э, дяденька! Оставь вам часы, так вы того... части перемените. Нет, я согласен только в том случае, если вы будете ремонтировать при мне.