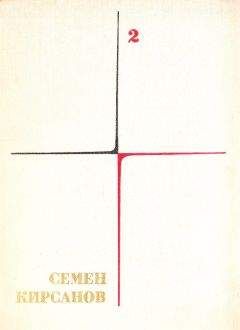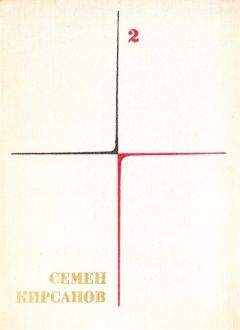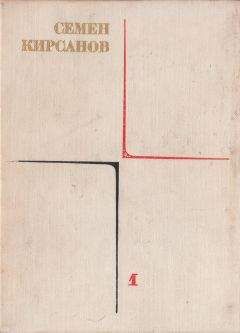Семён Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 4. Гражданская лирика и поэмы
На крылышках бабочки — сепия, охра и сажа. Ее окрасили без фиксажа. Остается на пальцах пыльца с ее пыльноцветного тела. Ах, какой неустойчивый цвет лица! Как природа недоглядела, почему не одела бабочку в игольчатый, панцирь, не предусмотрела, что бабочку будут ловить такие жесткие, твердые пальцы?
Слова
Слова — торжественные, слова, как пироги рождественские, слова как медленные шаги, как лакированные сапоги, — с царственными жестами, протягиваемые, жезлами. Слова уважения, почитания, умиления: жертвоприношение, бракосочетание, благословение, — соединившие руки, как августейшие царствующие супруги.
Слова простейшие: есть, пить, небо, хлеб, день, ночь, сын, дочь, нет, да, свет, стон, сон, я, он, ты, быть, жить. Это слова-однолетки ядрышки, клетки. Вполне годится обходиться ими одними.
Слова — служащие, услужливо слушающие: что? как? так? так! — они подаются к другим, как пальто и шинели, незаметны на слух. Они вроде слуг стоят у фраз за плечами, придаются словам, как ложки и вилки, затыкают слова, как пробки бутылки.
А есть слова деловые, мастеровые, как наждак, верстак, паковать, шпаклевать, поковка, ножовка, — обстоятельные, самостоятельные.
Есть слова, разящие и грозящие, обрывающие и убивающие, ждущие и жгущие, пирующие и целующие, губящие и любящие, злобные и добрые; слова как лекарственная трава, слова как еще не открытые острова, как в пустыне приснившаяся листва…
О, слова!
Перемены
В детстве я обожал калейдоскоп: скоп колотых стеклышек. Нравилось встряхивать и смотреть — особенно в скуку кори и коклюша. Калейдоскоп — колодца глубокое дно, конец удивительного коридора, цветное окно готического собора… Встряхивал, прикладывал к глазу, и было только обидно одно — что не удалось ни разу снова увидеть такое ж окно…
Как-то вытряхнул рыцарский орден. Очень был горд им. Но недолго смотрел на орден в глазок. На один волосок переменил позу, стеклышко синее скок — и орден превратился в разноцветную розу ветров.
С тех пор я очень люблю всяческую метаморфозу.
И поэзией ставшую прозу.
Надежда
Угадай: как он выглядит — коммунизм? Как он выгладит наши морщины? Говорят, что на вершины гор подымутся грани радужных призм… Говорят, что машины будут нам чистить платья… Говорят, что исчезнет понятье «в поте лица своего»… Люди забудут о плате… Нет! Больше того!.. Это будет знакомство людей на весь мир! Дружба с каждым и всяким, далеким и близким. Нет! Не стрижка под общий ранжир! Миллиардноразличные спектры и искры душ и лиц. Превращенье провинций и деревень в сотни тысяч столиц! И глаза людей — микроскопами в каждую встречную мысль. А мысли — телескопами ввысь. Понимание с полувзгляда шевеленья ресниц. Превращение слова «работать» в слово «дышать». Исчезновение слов, как «ложь» или «грязь», или «дрожь» или «мразь». Появление слов, а каких, я еще не могу угадать. Люди будут больше любить выражение «дать», чем «забрать». И обращение к людям на «я». И возможность сказать о планете — «моя». Никому не дадут заблудиться или пропасть. И воздух сквозной новизною пронизан. Да, я бесконечно люблю коммунизм! И имею надежду попасть. Стоит жить — с надеждой попасть в коммунизм.
ВЕРШИНА
Поэма (1952–1954)
Вступление
Вам, что решили
сквозь лед и камень
пройти к вершине своих исканий;
вам, смывшим с мыслей
грязь себялюбья;
вам, не забывшим
крюки и зубья с веревкой прочной
подвесить к вьюкам;
вам, знавшим точно
вес жизни друга,
когда слабел он на гребне белом;
вам, различавшим
со взгляда, сразу,
где час, где вечность,
где только фраза, где настоящая
человечность;
вам, кто с ладони
пьет, точно с блюдца,
нарзан студеный под горной складкой;
кому так сладко переобуться
в тиши привала у перевала;
вам, кому спится легко и ровно
под звездным кровом;
вам, потесниться и поделиться
всегда готовым;
вам, в мире снежном — душой богатым,
простым, и нежным, и грубоватым, —
друзьям случайным в пути по свету
я поручаю поэму эту.
Ей в буре бедствий,
в пурге событий
пропасть без вести
вы не дадите.
1
На Крыше Мира
с Тянь-Шанем рядом
вершин Памира
белеют гряды.
Памир вы видели?
Он удивителен.
Над зноем Индии
он весь заиндевел,
и Гиндукушу
он смотрит в душу.
В час самый ранний,
когда светает,
привет багряный
он шлет Китаю,
как друг навеки.
И неустанно творит все реки
Таджикистана.
Спят перевалы, через которые
шли караваны во мгле истории.
Все трудно, честно,
сурово, строго.
Скалой отвесной скользит дорога.
Сорвешься — кончено!
Лишь пыль всклокочена…
Путь Марко Поло —
мир словно умер,
безлюдно, голо.
А горы в думе
о гуле странном за океаном:
какая тень там, над континентом?
Кто не взволнован, не поколеблен
их вечно новым великолепьем!
Здесь нет двуличия —
одно величие!
Но не презрителен,
он только старше,
седой президиум
планеты нашей.
Арены, бездны, ручьев рождение,
морены тесные нагромождения,
размывы, срывы,
где ждет разведчиков
внезапность бедствия,
где глетчер Федченко ползет, как шествие
горбатых статуй в сосульках спутанных,
покрытых прахом
и в лед закутанных гигантских женщин,
объятых страхом у скользких трещин…
Лавин падение
с грохотом бешеным,
оскалы хаоса тысячеликого,
и где смыкается
Цепь Академии с хребтом заснеженным
Петра Великого,
где льдины плотные
и фирн спресованный
все склоны заняли, —
там, как высотные
Природы здания,
закрыв снегами свои морщины,
недосягаемые стоят вершины.
Уже окончились сады миндальные
Сталинабада,
уже видали мы алмазно-солнечный
блеск ледопада,
и смерч, крутящийся
багровой массой,
и дико мчащийся брод Танымаса.
Уже поблизости
в камнях под скалами
обросший известью
ключ отыскали мы…
Витыми тропами
мы шли внимательно,
я и три опытных рудоискателя.
Все кряжи Азии они облазили
и молотками гранили камни, с утесов сколотые.
Что кружит голову
в горах геологу?
Свинец и олово,
вольфрам и золото —
вот что геологу
здесь кружит голову.
В пластах остаточных,
где блещет жильца,
причин достаточно,
чтоб ей кружиться…
Передо мною главарь веселый
нес за спиною
рюкзак тяжелый.
Следы металлов
ища, как счастье,
всегда питал он
к камням пристрастье.
Он не покинет
находку в яме —
буханку вынет,
заменит камнем!
С ним шел южанин
с лицом вечерним,
глаза — кинжалы
чеканной черни.
И пел он часто.
Что? Было тайной.
Звучал неясно
напев гортанный.
Был третий ровным
и молчаливым,
спокойным, словно
вода залива.
Что б ни случилось —
в пурге, в тумане, —
всегда светилось в нем
пониманье
моей дороги, моей тревоги,
моих желаний и ожиданий…
А я, я с ними
пошел к вершинам —
к стоящим в синем
земным старшинам.
Но не за рудным месторожденьем
я шел по трудным нагроможденьям
к снегам и гребням по узкой бровке.
Не по служебной
командировке —
по просьбе сердца:
лишь насмотреться.
Увидеть мне бы мир высочайший,
накрытый чашей чистого неба!
Лишь встать над мощным
седым потоком,
и все, что в прошлом,
подбить итогом,
и жизнь задумать верней, чем прежде, —
над мглой угрюмых щелей и трещин.
Так шли мы, четверо,
к цепям высоким.
Уже обветрило
в пути нам щеки,
уже дорогою витой, по кругу,
успели многое
сказать друг другу.
И край суровейший,
что, словно скряга,
держал сокровища в бездонных складах,
где тьма нависла над низом дымным,
вдруг становился гостеприимным
и, как поместий хозяин щедрый,
шел с нами вместе,
раскрыв все недра
гостям желанным
для обозренья,
сняв все туманы без подозренья,
стлал путь нам мохом,
как редким мехом,
и провожал нас
далеким эхом,
звучавшим, будто поверка стражей,
глядящих люто с зубчатых кряжей,
прищуря веки коварной тайной
закрыть навеки
нас в башне крайней!
2
В поэме этой
вы не ищите
эффектно вдетой
сюжетной нити.
Она не прочит
себя в романы,
она не очерк
о далях странных, —
в туманах роясь,
в дождях и в глине,
она лишь поиск
тропы к вершине.
Не все так ясно,
не все так гладко
шло, как по маслу,
своим порядком.
И быт был выбран
не то чтоб низменный,
и стол мой письменный
был чист и прибран.
В тетради — почерк,
как ключ, извилист,
и струйки строчек
в блокнотах вились.
Но было это
не на вершине и не в низине,
а между где-то, посередине.
Так было дома,
а в мире, тут же,
шел век подъемов
по льду крутому, в огне и в стуже,
век Сталинграда
и век Вьетнама —
век восхождений сердец упрямых
к высоким грядам.
И век падений, глубоких самых,
век эпидемий и нападений,
фонтанов дыма,
смерчей, обвалов…
Век Хиросимы и Гватемалы…
Я так старался
быть рядом с высью,
я к ней взбирался
проворной мыслью.
Мне открывались
дела-высоты,
где прикрывались сердцами доты,
где через трупы
с обрывком флага
шли вверх, на купол,
на штурм рейхстага,
на рельсы прямо —
ложились грудью,
чтоб в грудь Вьетнама
не бить орудью,
где узнавались глубины долга,
где целовались у Дона с Волгой,
в отряде горном
крутизны брали…
Не на страницах, не позы ради,
а в ходе жизни.
Но в ходе жизни
мне стало мниться, что, отдавая
ежеминутно свет отражения,
жизнь шла, как будто шла видовая.
Я с ней — не вместе.
Она в движении,
а я на месте.
Что рядом с вымыслом
стиха и прозы
жизнь страшно выросла!
Все громче грозы.
Мощней и шире зеленоватые
валы девятые событий в мире.
Вот на экране
напалм и пламя…
Товарищ ранен!
Но разве там я?
Вот, может, в Чили
в порту, средь бочек,
пикет рабочих в слезоточивом
проходит газе…
Но там я разве?
Не там, где к полюсу
подходит льдина,
где холод полностью жизнь победила
и люди взялись за ось планеты…
Я только в зале,
с входным билетом.
Фильм ослепителен
с сюжетом жизненным,
монтаж чудесен.
Но быть лишь зрителем
удел мне тесен,
при общепризнанном
удобстве кресел, в тепле, в квартире.
Где взять, как выпросить
свою часть чувства участья в мире?
А так жить — грустно.
И стал менять свой реальный день я
на мир неясный, на сновиденья.
Во сне я крался кустами хлесткими
и натыкался на камни с блестками
в прозрачных жилах.
Они звучали: «Мы очень ценные,
в нас скрыта сила».
И облучали сияньем стены мне.
А то я химик
и в пальцах синих
держу открытие: белка рождение!
То вдруг отплытие,
то восхождение почти что по небу
к парящим стаям…
Вот так я бредил,
большое что-нибудь свершить мечтая.
Но в смутном будущем
терял я чаще
работы будничной
простое счастье, —
план не заверстан,
день не построен…
Так недовольство собой святое
вдруг стало болью
и раной рваной,
натертой солью.
И с ней я сжился,
с разъевшей грудь,
и так сложился
сюда мой путь.
Как будто встретит
седая высь и мне ответит:
«Остановись!
Смотри не под ноги,
а вверх, где круть,
в волшебном подвиге
ищи свой путь!»
И речью кряжей лед и гранит
мне все расскажет, все разъяснит.
И все, что трудно найти, — найду!
И долго буду стоять на льду,
на мир, зарытый в туман по треть,
зарей залитый, — смотреть, смотреть…
3
Все круче, круче
мы шли вдоль края
гряды сыпучей,
в грунт упирая
ботинки кованые.
Все выше, выше.
И вот мы вышли
на ледниковое средь гор течение.
В ожесточении
ледник низвергся.
Природа вздыбила и рассердила
богов и идолов. И рассадила
в гранитных креслах
Рамсесов, Ксерксов.
А льду повелено
вести в затишье
поход замедленный
орды застывшей.
И в этой гибели ветрам открытый
мы ригель выбрали,
покрытый рытым
полярным бархатом —
зелено-яхонтовым лишайником.
Разбили низкую альпинистскую
палатку нашу.
И рады-веселы!
Звякнули чайником,
цибарку с кашей
на спирт подвесили
на тонкой дужке.
Достали кружки и концентраты.
Мурлычем песни.
И так чудесно нам разговаривается.
И сыр мы режем,
вкушая роздых в тиши.
Но воздух здесь так разрежен,
что долго варится каша наша,
земная, гречневая.
…Льды плыли, пряча
в тумане трещины.
Вожак наш начал
рассказ обещанный.
Он был в походах,
в делах немалых,
и мы с охотой ему внимали:
«Вот тут стояли мы
тому лет двадцать,
вот тут мечтали мы
на Пик подняться.
Вот так же вечером
здесь, на привале,
мы перед глетчером чай допивали.
Остался лагерь
лишь промежуточный.
Глоток из фляги —
и в путь нешуточный!..
И вот мы в Области Оледенения:
вершин и пропастей уединение.
Нет человечества!
Лавины белые.
Скал оконечности окоченелые.
Все льдом оплавлено —
навалом, грудой…
Но нет! Неправильно.
Здесь не безлюдно.
Пусть мрак в расселинах,
пусть всюду трещины,
пусть цепи встречные,
и параллельные, и поперечные,
пусть в цирках пусто
и гриф не кружится
над мертвой местностью —
тут живы будто вершины мужества,
вершины честности.
Под ними гряды, ущелья нижние
и неподвижные ледопады.
Тут, встав из мрака,
опять на свете
глядит Пик Сакко на Пик Ванцетти.
Стул электрический не смог убить их.
Вокруг них — тысячи
борцов забытых.
Тут, недоверчиво
к словам неискренним,
врага зловещего
в горах разыскивая,
встал Пик Дзержинского
утесом острым.
Все строго. Просто.
Весь мир окинут с поста испытанного.
И снег откинут
со лба Димитрова.
Он снова судит.
И всюду — люди из лучших лучшие.
Как две трибуны, Пик Революции
и Пик Коммуны.
Хребет кренится, ущелья вырыв.
Вот у границы
Пик Командиров.
Теперь нет края
часам их службы.
И в глубь Китая
глядит Пик Дружбы,
звездой поблескивая.
И, рифмой вторя ей,
Пик Маяковского
тут славит будущее,
стихи читая
перед бушующей аудиторией
бурь и обвалов
в двенадцать баллов.
А вот у пропасти
площадку выхватил
и вертит лопасти ветродвигатель…
Туда по гребню
отрядик тянется,
там ближе к небу — метеостанция,
где в ульях трудятся
все пчелы ветра.
Начало старта —
пять тысяч двести
шестнадцать метров…
И вновь нам чудится,
что вот нагнулась
фигура Фрунзе как бы над картой
военных действий, горою высясь.
И взмахи гула в гигантской кузне,
где сотни тысяч
гор неизвестных, но чистых, честных…
И рядом, тут же,
светясь лучами,
прошел сквозь тучи
Пик величавый.
И из-за облака алмазной пыли
вдруг проступили черты знакомые
Предсовнаркома
над снежной „Правдой“.
Вершина Ленина,
всем близкий облик,
простой и вечный.
Лоб человечный.
Взгляд кинут искоса
давно, тогда еще,
в тайге ненастной, все понимающий,
что нам неясно.
Точка за точкою по крыльям сбросов
вдоль ледопада
к нему — цепочкою —
идут студенты
из абрикосового Ленинабада.
Он солнцем залит
весь и мыслью светится.
Нет! Не безлюдно здесь —
здесь человечество.
Здесь восходители,
маршрутом следуя,
нередко видели
пик неразведанный,
пик неоткрытый,
по грудь зарытый
в снега, в туманы, —
пик безымянный.
Он, дымно-перистый,
не знавший таянья,
имел трапеции очертания.
В величье мощном, с окраской нежною,
он был похож на палатку снежную,
где греться можно…»
И было слышно, как плещут складки
в тепле надышанном
у нас в палатке.
4
Не прерывавшийся и вздохом даже,
рассказ товарища нас вел по кряжу:
«Снега твердели,
кололись иглами,
к концу недели уже достигли мы
исходной точки
для штурма Пика.
Вокруг так дико!
Лед там не тает зелено-серый,
цифр не хватает высотомеру.
Прибором зрительным
мы приблизительно определили:
семь с половиною тысяч метров.
Конец идиллии.
Свирепость ветра
с рычаньем львиным,
— Не дать дорогу! —
И ставишь ногу лишь вполовину:
спугнешь лавину…
Цвет неба синий
все интенсивней.
Все строже стражи
седой природы.
Отвесней скалы.
Идешь усталый, нет кислорода.
И горло настежь,
и гнутся спины.
И все же жаждешь
достичь вершины.
Был Акбулаков
душой отряда,
его отрада — чтоб злей преграда,
чтоб неприступней, отвесней,
круче!
Лезть в высоту к ней —
ему тем лучше!
К труднейшим скалам
он мог увлечь нас.
Он придавал им
жизнь, человечность…
Мы шли в огромных
туманных кольцах в двух центрах неба
И кровь сочилась из носа часто.
В четверг случилось у нас несчастье:
ослеп товарищ.
Он шел без темных очков при солнце
и блеске снега…
Его начальник
отправил в лагерь.
Пример печальный пустой отваги!
И нас осталось всего четыре.
Как нам досталось в вершинном мире!
Друг к другу жмемся
под снежным вихрем,
ждем не дождемся,
когда утихнет.
Дождались. Утро.
Мир тих и светел.
Смирился ветер.
А горы дремлют
в подушках снега.
Их будит эхо.
Проснулись. Внемлют.
Мир ослепили.
Со мной вступили в переговоры,
как духи в чуде:
— Вы кто? — Мы люди.
А вы? — Мы горы.
Вы к нам хотите?
Что ж, подходите
и нас не бойтесь.
Но позаботьтесь,
чтоб был подарок.
А мы наставим
туманных арок, сиять заставим…
И наши взоры высь оглянули.
И тут же горы
нас обманули.
Наш старший — Дорохов —
ступил неловко на угол глыбы
и рухнул с ворохом снежной ваты…
Мы виноваты?..
Мы б удержали, мы помогли бы,
но перетерлась его веревка.
И, сбросив тормоз,
снег вниз понесся за ним в погоню.
И там, в заносах,
он похоронен и не отыскан.
Мы тур сложили
и положили о нем записку:
„Прощай, товарищ,
мы не отступим…“
И дальше — в горы
с неостывающим долгим горем…
А путь все круче
ведет по туче, подобной стаду
горбатых яков…
(„Пик недоступен!
Вернуться б лучше…“)
Но Акбулаков
ни слов не слышит, ни нас не видит,
он тем лишь дышит, что вот-вот выйдет
к ней —
из-за гребня еще не видней —
к палатке в небе трапециевидной.
Нет, не обратно!
Громада блеска в мильярд брильянтов
уже так близко!
Скрип снежной толщи.
Наш Пик все больше!
Снег солнцем плавится.
Боль в красных веках.
На этот белый, оледенелый
покров Памира
след человека впервые ставится
от Сотворенья мира!
Шаг здесь неведом.
Снег здесь ни разу
не тронут следом.
Как больно глазу!
Опасно, круто.
А гребни будто
вкруг нас сходились
и отступали.
Мы не ступали,
нет, мы трудились
над сложной, темной,
головоломной
задачей шага.
В ушах трубила кровь
сонмом адским.
Шаг сделать — было
трудом гигантским.
О, шаг! Как труден,
как нужен людям
шаг этот новый!
Как со снежинок
поднять ботинок семипудовый!
Еще сегодня была проста ведь
шагать наука!
И вот он поднят.
Вторая мука — его поставить
на снег непрочный,
где вместо почвы
прикрыт, быть может,
край трещин, скважин?
Но, шаг! Как важен
ты людям новым,
вперед и дальше
идти готовым!
Насторожился
весь мир безбрежный,
высотно-синий.
И нам открылся солнечно-снежный
шатер вершины.
На нем свободно
лежат две складки,
как на походной
простой палатке.
Но всё! Я первый упал. Обвисли
мышцы и нервы.
Спутались мысли.
Руками шаришь…
Вторым товарищ
упал, заплакав.
Лишь Акбулаков ползет на гребень,
последний в небе.
Он верит. Знает.
Он в фирн вонзает
сталь ледоруба
и кошек зубья.
Согнувшись низко, он подползает
к вершине близкой.
Все в мире слепнет
от солнца в белых протуберанцах!
Но — шаг последний!
Приподыматься он начал, словно больной,
и снова встал во весь рост он…
И вдруг, мгновенно
все стало просто, обыкновенно,
как акт приемки работы сданной.
Следы по кромке
в мир первозданный.
Их на рассвете обдунет ветер,
и вновь бесследно
затянет снегом.
С какой оценкой
тот шаг опишем?
Еще ступенькой
на свете выше.
На метр, но шире
всей жизни видимость,
и лучше в мире
нельзя и выдумать!
Пусть след стирается,
пусть засыпается,
зато увиденный
мир удивительный
вдаль простирается
вновь расступается
Вот знамя врыто.
Зарею греется гряда суровая.
И вот с открытой
уже виднеется в студеном небе
вершина новая.
Скорее к ней бы!
И мы увидели, как, встав на гребень,
тень победителя
легла на небо всего Памира.
Гигантским галло
ее подняло.
Собой полмира она покрыла
и повторила взмах ледоруба,
как жест всемирный.
А к нам по фирну, найдя дорогу,
в наш след вступая,
вся наша группа шла на подмогу,
и песня пелась
про жизнь и смелость…»
5
В уснувшем лагере
после рассказа
в свой сон заглядывали
два черных глаза,
где плыл наплывом
ландшафт Кавказа.
Вовсю, на славу
спал наш рассказчик,
он был по нраву
из крепко спящих.
Спал, чутко вздрагивая
на каждый шорох,
друг молчаливый, как бы в тревоге
за тех, которых
обвал и ливень застал в дороге.
Уснул и ветер.
Мне ж не лежалось под парусиною.
Во мне все жаловалось
и обижалось
на безвершинное житье на свете.
Где мой сверкающий
подъем на гребень,
на снежный краешек,
где никогда еще никто и не был?
Где — над простором
хрусталь чертога —
цель, без которой пуста дорога?
Найдется ль вскоре?
Я даже в этом высокогорье,
седом, туманном,
не восходитель,
а только зритель с входным билетом
перед экраном.
С такой тоскою я шел вдоль склона
перед рекой ледниковой, сонной.
Как странен вечер!
Нет рядом тени.
Из льда изваянный,
плыл спящий глетчер,
неся развалины
землетрясений.
«Вот тишь…» — я думал.
Вдруг ветер сдунул
с ночных верховий комок пуховый
реке навстречу.
Со скарбом, скопленным
в горах заснеженных,
ледник плыл толпами
замерзших беженок.
Синь стала гуще. Сильней подуло
тревожным гулом
толпы бегущей.
Раскинув перья, плыл небом хаос.
Не шел теперь я —
брел, спотыкаясь.
И словно коваными каблуками,
стучали камни,
спасаясь бегством.
А мрак разросся.
Теперь он несся, стеною снега
метя по безднам.
И неизвестно: где флаг ночлега,
где плечи, лица,
рука, чтоб взяться,
остановиться?
Нет! В злобно воющем
концерте фурий
я стал такою же
частицей бури,
как снег, как камень,
со склона сорванный,
маша руками
назад и в стороны,
земли не чувствуя,
но все же зная
обрывком мысли,
что это буйствует
дух гор, хозяин
Памирской выси.
Внизу — потопом опустошительным
он несся с топотом
к долинным жителям
ордой, толпою, ночным набегом,
а здесь — крупою и мокрым снегом
в чернейших перьях,
как джин на сцене,
он шел — соперник землетрясений,
в смерчах вращающий
камни и градины,
дух, превращающий
в озера впадины,
творящий горы и водопады, —
вихрь, от которого
не жди пощады!
Мрак мутью месится,
все небо кружится,
я вместе с лестницей
несусь обрушившейся,
в туманной пене,
со снежной кашей
перемешавшей
мильярд ступенек.
Рев нападенья
орды всех демонов.
И — дело сделано.
Толчок паденья.
На дне паденья
стал грохот лепетом.
Пурга затихла.
С лицом залепленным
из массы рыхлой
я встать попробовал.
Но был сугроба вал
глубок и влажен.
Терпел я бедствие.
Так, помню в детстве я:
мурашек, пойманный
в песке на пляже,
подняться тщился.
В песок проваливаясь,
он так карабкался,
так копошился.
И я ворочаюсь
так — в свою очередь.
Плечом, спиною
разгреб сугроб я
и к свету вылез.
Вот надо мною
вновь появились
чертоги черные
с полоской неба.
Но это не были
вершины горные.
Встав, словно тени
и льдом обвешанные,
чернели стены глубокой трещины —
два бока щели,
где, пойман опытным ловцом в погоне,
я — как прихлопнутый
меж двух ладоней.
Мысль впилась в разум,
я понял сразу:
конца начало. Башня Молчания!
И закричало
во мне отчаяние.
Я в сумрак сизый
вгляделся.
Где он, проход для жизни?
Нет! Я заделан,
вмурован в стену.
Хотя б карниз мне.
Но нет уступок.
Здесь ни уступа.
Высокой тенью,
старинной кладкою,
кой-где коробясь,
до боли ровная, до крика гладкая,
отполированная стояла пропасть.
Погиб! Не выползти
под облака мне.
О том, чтоб выпустил,
не скажешь камню.
Кому пожалуешься?
У скал — где жалость?
И щель безжалостно вверху сужалась.
Теперь ни вех,
ни троп, ни флага,
ни взгляда вверх,
вперед ни шага…
6
Чем свет надежды
тусклее светит на верхний выступ,
тем крепче между
двух скал я стиснут.
Мир в отдаленье.
Потерян. Отдан.
Уткнув в колени
свой лоб холодный,
лопатки съежив,
с ознобом, с дрожью,
в озябших пальцах
то засыпал я,
то просыпался,
во сне надеясь найти привычный
стол и будильник,
что был на девять
всегда навинчен.
Сон? Нет, реальность.
Гранит осклизлый.
Мрак сплошь окутал
провалы черные.
Их контур резче.
Я — мне казалось —
сижу у линзы обсерватории,
и вместо трещины —
с разрезом купол.
Уселся как-то,
смотрю в рефрактор:
семь звезд неясных
Большой Медведицы,
Москвы — пять красных
туманно светятся.
И в одиночестве,
на жизнь в обиде,
я огонечек свой
далекий видел
среди скворешен —
в Замоскворечье.
Недосягаемый
стакан на блюдце,
никак сюда ему
не доплеснуться.
Там, меньше тысячных
долей песчинки,
сам я за пишущей
сижу машинкой,
ища то слово не застывающее,
что светит, словно
глаза товарища,
и облучает дорогу в горы,
и облегчает любое горе,
и вдруг становится
всем нужным смехом,
и, как пословица,
обходит эхом
поля и комнаты,
разлуки,
встречи…
Как высоко мне, там,
в Замоскворечье,
не успокоясь, вести свой поиск!
Ну, так вернись же,
будь в этом мире!
Там разве ниже, чем на Памире?
При всей далекости
он виден в линзе,
он — точно в фокусе
мир нашей жизни.
И панорама мне поворачивает
то лес огромный,
то пилораму, где поворачивают
большие бревна,
то дом с девичником
берез кисейных,
то вдруг сворачивает
с дорог шоссейных
и вверх карабкается по каркасу,
как по Кавказу!
А там, где тащит стальные рельсы
кран над столицей,
сверкает сварщик
своей зарницей,
слепящей, синей.
Он— на вершине.
А ниже? Ниже
стоят подруги в подземной глине,
соединивши, как в детстве, руки.
Сошлось отныне
кольцо туннеля.
Последним слоем
прошла машина.
Здесь — под землею —
для них вершина.
И, впившись в линзу,
я это вижу из мрака, снизу.
А вот и лагерь в целинном поле,
где пахнет степью.
Палатки. Флаги.
Тут горы, что ли?
Да, здесь и горы,
Здесь — первых борозд горные цепи.
А завтра — жатва.
Подымет жница пшеницы колос,
как флаг на гребне…
В рассвете синем
прошел садовник к своей вершине —
зеленой кроне на южном склоне, —
чтоб плод волшебный
взять у Природы.
Вот луч восхода на терриконе,
сошлись шахтеры
у вечно черных вершин породы.
И в вечно белой
операционной хирург бессонный
свой труд кончает
в лучах рассвета.
Пульс крепче, чаще.
Проснется спящий.
Вершина это.
Мать держит сына,
поет, качает —
ее вершина.
А вот под лестницей
к часам мельчайшим
склонился мастер.
Все эти части
здесь в его власти.
И вот он счастлив:
есть пульс в волосике,
пошли колесики
послушных суток вперед чин чином.
В секунду эту
взошел он будто сам на вершину!
В стекло двойное,
по щели треснутое,
я вижу: двое стоят так тесно,
так — куртка к платью,
как будто в мире
лишь это место
для их объятья.
А все другое для них предгорье
вершины снежной
любви их нежной…
Вдруг телескопные
все линзы лопнули…
Осколков сколько!
Сплошь, как портьерами,
закрылась бездна.
Вот что потеряно.
Вот что исчезло.
7
Скалу, что льдинами
нависла круто,
тенями длинными,
как демон Врубеля в павлиньих перьях,
покрыло утро.
Теперь я видел из узкой ямы,
из тьмы безлестничной,
как стены сложены,
как, подытожены века слоями
породы треснувшей.
Изломы нижние под тенью хмурой
валялись
книжною макулатурой,
как в обвалившейся библиотеке…
Кто был тот, рывшийся
здесь в юрском веке,
в стеллажах, стиснутых
в подземном шкафе?
И что оттиснуто
на корешках их?
Где их раскрытье?
На Крите знаки прочесть бы легче!
Закладки брекчий[4]
в тысячетомных
собраньях сбросов.
Пропасть вопросов!
Таблицы сдвинулись.
Природы клинопись на плитах плоских.
Как называются
такие блестки, стеклом облитые?
Не пневмолитовые ли сложения?
Воображение мне нашептало:
«Здесь — цель разведки!»
Крупинки серые лантана, церия…
Названья странные
металлов редких —
лютеций, стронций…
Слова, звучащие
подземно, дивно.
И мысль кипящая
меня ошпарила:
радиоактивность!
Вверху у края
сверкнуло солнце,
как грань брильянта,
жужжа, сверкая
бурлящей массой
слепящих ядер.
Стена стояла
раскрытой кассой,
и в ней — миллиарды!
Нашел! Конечно!
Вот этот прогиб…
Здесь — цель конечная моей дороги.
Сны были в руку,
сбылись виденья,
не зря — паденье!
Мелькнув шутихой,
грань откололась,
ощупать можно!
И тут же тихий сигнальный голос:
«Не в этом выход,
оставь, все ложно…
В снах — нет значенья!»
Но излученье все нарастало.
Как разноцветно,
как ярко стало!
Как ленты спектра
горят на призмах!
Какой? Который
здесь — чистый торий?
Актиний? Литий?
Вернейший признак
моих открытий — стена сияла!
На мелком щебне,
как злой волшебник, стена стояла,
прижав к сверкающей груди
осколки…
А ведь страна еще
не знает, сколько
чудес тут скрыто!
Вот что открыто!
Теперь отвергли б мы
нефть, уголь, ветер!
Ведь тут энергии
на сто столетий!
Всем людям будущего
запас богатства!
Но как добудешь его,
как вверх добраться?
Нельзя, нельзя ж его
оставить в нетях,
в теснинах этих
зарывшись заживо!
Как вьются жилы
наследства щедрого
в отвесных скалах!
О, если б четверо
сложили б силы
и путь искали,
и я, и рядом,
вожак отряда,
и тот, с вечерним
зрачков свеченьем,
и тот, кому я в беде признаться
мог напрямую, —
нам — только взяться б —
по плитам каплющим
к подарку яркому
друг другу на плечи
и руку на руку!
Мы б в этой гибели
ступеньки б вырубили,
мы проложили бы
путь сквозь породу
и положили бы на стол
народу
клад,
что нашли мы, —
неисчислимый…
Но — под громадою
жил и извилин
один — я падаю,
один — бессилен!
О мир товарищей,
как ты далек!
Где остывающий
мой огонек!
Там, в человечестве,
пропасть нельзя,
кивни — засветятся
вокруг глаза.
Здесь — одиночество,
ни слов, ни глаз,
И огонечек твой
почти погас…
8
Исчезло сна
кино цветное.
Опять тесна
щель надо мною.
Лишь серый цвет,
цвет однотонный,
принес рассвет в расщеп бездонный.
Но, как с клише
неясный оттиск,
от сна в душе остался отблеск —
мысль о моих
друзьях забытых,
там, в снеговых буграх, зарытых.
Обвал сорвал
брезент палатки,
занос занес
их слоем гладким,
забиты рты
крупою мокрой,
глаза мертвы,
сердца умолкли!
По снегу — зыбь,
и сгорблен глетчер,
он тонны глыб
взвалил на плечи…
Друзья мои… По ним смертельно
прошли слои крупы метельной!
Там, где столбы ледник расставил,
я бросил их, забыл, оставил,
и нет других,
что помогли бы,
там, как враги,
бездушны глыбы,
и в этой мгле лишь я способен
найти их след, среди сугробин,
добраться к рации,
стучать, сигналить,
в кровь обдирать свою
ладонь об наледь!
Там есть наш след,
приметы, знаки:
примятый снег, крючок рюкзака,
лоскут флажка, брезент ночлега…
Скорей! Рука видна из снега,
темна, смугла…
Вчера по-братски
мне помогла она взобраться,
и наш вожак
в путь через глетчер
взял мой рюкзак себе на плечи.
Теперь он где?
Пропал без вести?
И я в беде с ним не был вместе,
упав с вершин,
забыв, что в мире
я не один, что нас четыре.
Там, где горбы хребет раздвинул,
я их забыл, я их покинул,
просвет закрыв своею тенью.
Вот где обрыв!
Вот где паденье!
Скорее — с глаз
прочь все химеры!
В душе — приказ:
«Принять все меры!»
Приказ любви, приказ присяги,
страны, звезды на красном стяге:
взобраться вверх
отвесным камнем,
найти их всех, отрыть руками,
трясти, мешать
в смерть углубиться,
дышать на них, тереть им лица!
Еще не поздно!
Скалой теснимый,
теперь я послан
страной за ними,
командирован, на пост назначен!
А новым людям
нельзя иначе:
ведь там, где новый закон основан,
я человеком хотел быть
новым!
Не может быть,
что нет просвета, —
тропинки нить
здесь вьется где-то.
Вот трещин сеть,
вот выступ вылез,
слои на свет вот появились.
Как я был слеп!
Не видел взвитых вверх по скале
ступенек сбитых,
ведущих к ним,
к друзьям, на помощь!
Ты нужен им!
Ты лагерь помнишь!
Теперь есть цель!
Она ясна мне.
И ногти в щель и сердце к камню.
Вот верх, вот низ,
слои, обломки…
Слились б карниз края их кромки.
Теперь глаза
наверх, к просвету!
Упасть нельзя —
замены нету!
Какая круть!
Отвесно, плоско.
Притерлась грудь
к скале нагой.
Но на стене
ложбинка, блестка
годятся мне — упрусь ногой!
Ввысь тороплюсь
с палящей жаждой!
Теряя пульс, там ждут меня.
Как важен там
мой шаг, мой каждый
отвесный метр вверх по камням!
Вверх по камням
над мглой провисшей,
чтоб водрузить на Пике флаг,
со мной мой ямб —
все дальше, выше —
ведет по узкой кромке шаг.
А ты, зарытый в снег товарищ,
усиль свой пульс, дыши, дождись,
не умирай, — ведь ты мне даришь
смысл возвращенья, тропку ввысь.
Нет тени страхов и сомнений!
От приближения к тебе
все превращается в ступени
теперь на каменной тропе!
И невозможность стала верой —
не отступать, не уступить!
и осторожность — точной мерой,
где надо стать, а где ступить.
Скале теперь меня не скинуть,
я весь гранит прижал к себе,
гну и кладу его на спину,
как побежденного в борьбе.
Щекой к стене, все дальше, выше.
Вот наконец обрыв нависший,
и вот она — в корнях, морщинах —
земля видна, земля — вершина!
И там, где сгрудились
не камни — комья,
мне вдруг почудились слова знакомые.
Товарищ свесился
и в глубь суровейшую
спускает лестницу ко мне веревочную…
И — все равно,
кто кем был вызволен, —
сотворено большое в жизни!
Вот вечный снег,
и глетчер Федченко,
и наш ночлег
в цветочных венчиках.
И вновь прочерчена
тропа пунктира!
Нас снова четверо
на Крыше Мира.
9
Уже исколоты
прощаньем щеки,
а спуск так короток
с хребтов высоких.
Уже растаяли
мои товарищи у Пика Дальнего,
у льдов нетающих,
где вечным снегом
чело увенчано
вершин, навеки очеловеченных,
Они — на поиски,
а я — к той шири,
где всеми строится
наш мир вершинный.