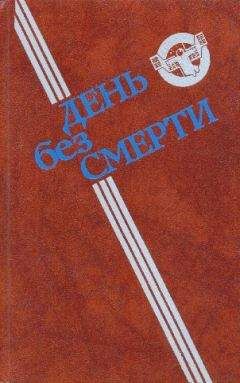Феликс Максимов - Все, кроме смерти
На столиках прямо в горлышки бутылок воткнуты свечи - фитильки на сквозняке клонятся влево.
Сутулый студент закурил. От его “собачьей ножки” - прижгла свою пахитоску дамочка с прошлым - и откинула длинную ладонь с длинным мундштуком и выпустила длинный столб дыма из ноздрей, сама длинная, как латинская буква “X” в тисках китового уса.
“Безноженька” открыта совсем недавно - и верно, раньше в погребе этом помещался винный склад, еще шуршит на керамиковых плитках пола солома….
Еще не разрушены грубые дощатые полки для номерных бутылок, еще царит сырость и селитра в углах.
И безноженька имеется - она встречает гостей у испода крутой лестницы: девка-культяпка с испитым лицом - косы вокруг головы, на тяжелой груди - блузка в крупный горох. Инвалидка-обрубок воткнута в ящик на колесиках, ноги у нее отняты кажется по самый зад, но она весела, дебела, пьяна - бывшая фабричная Клавка.
Ее наняли на вечер для развлечения и она слабо понимает, где находится, но ей здесь тепло и не бьют.
Рядом с Клавкой водит смычком по кошачьим кишкам скрипач, нажаривает для смеха местечковый танец “маюфес”, других он не знает, обычно играет на свадьбах.
Клавка, половина человека, хохочет, жует, кроша, капустный пирог. В ложбинку меж творожных грудей тиснута початая “чекушка” водки.
Мимо распухшей рожи Клавки-безноженьки мелькают по ступеням вниз брючные ноги, мужские туфли, точеные каблучки, капризно присборенные дамские туалеты, хитро подкованные острия лондонских тростей.
Со звоном и шелестом гости швыряют монетки и купюры в круглую картонку.
Кто-то уронил сосательную конфетку в розовой бумажке.
Клавка булькает зобатым горлом.
Скрипочка пилит.
Хорошо! Жарко! Еще!
Средний план, с переходом на крупный и диалог
Шляется меж столиками, городского разлива звезда - Лиличка Магеллан в страусиных бальных перьях, поэтесса с пекинесом в шелковой авоське - вся порыв, вся - мигрень!
Теплый финьшампань дремлет в богемских хрустальных бокалах-лилиях. Лиличка бледна, как гипс. Пекинес спит. Он привык ко всему.
- Милые! Я с вами! Сколько молодых лиц! Я все мучилась, мучилась, пойти - не пойти, и вот вырвалась! Душный быт, будни, проза! Вавочка! Вася! Умоляю!
Лиличка повисла на плече коренастого молодца и вопит на весь зал:
- Вава? Ты еще не вывел угри? Ах, ты, моя морда дорогая! Без обид и конфуза - что естественно, то не стыдно! Гарсон! Папиросу и водки со льда! Мексиканский перец и лимон! Вава, Господи, как я рада! Целоваться, сейчас целоваться!
- Иди домой, фригидная! - потрясает мускулами поэт Вава и стряхивает даму в проход меж столиками, как столбик пепла.
- Миноги в горчичном соусе! Филе миньон! Два! Литовский хлодник! Повторить! Потофе на пятый столик! - надрывается официант у кухонной двери.
Возятся двое служителей у сцены-подиума, как и вся обстановка здесь, сколоченной наспех.
Вава Трэвога, злокачественный юноша призывного возраста в люстриновом пиджачке и розовом чепчике, влез на шаткий столик близ пианино.
Рявкнул:
- Вот вам! Разложение старых форм! Молчать не могу - и не буду и не буду и не буду!
И рубя ладонью дымчатый воздух подвала выкликает Вава, краснея одновременно скулами, висками и розовыми оборками чепчика:
- О подруга моя, прислуга, молчи!
Ароматы рейнвейна, этуаль из оркестра…
Не весталка, не весть чья невеста! Но вести
Дурные разносят по весям…
Врачи!
О двенадцать убитых - тринадцатый я,
Распряженный фиакр, Опорожнен фиал.
Флер д оранж, и букетик фиал
Так убийственно мал!
Я - Сахара, Самум, Революция, Нация, Шторм.
Я на цыпочках эльф, заглянувший в ничто…
Чтобы что!
Смерти по горсточке в каждый рот,
Был я ангелом - стану - крот!
О, подруга моя, прислуга моя, умрем…
Тыкывык! Кубода, кубода! Гумц!Гумц!
Лабада, любода, бебека, лебезяй!
Ям, ням, мамана, убубу!
Убубу лебедей!
Лебедей!
Где??? Прыщ! Хвощ, борщ, дощщ, мощь!
Катерпиллер!
Дыррррр! Мрак! Бряк!
Мяя-кушка! Пы-ыпочка! Ё-олочка!
Тинь-тинь - трах!
Квак!
Поэта Трэвогу стащили со стола за ногу, поцеловали сразу две фрикаделистые курсистки, а у них в глазах - синева, а грудки колышутся едва.
Сквозь дым контрабандного индийского сандала и папирос первого классу “Тибет” от столиков доносятся вялые клики:
“Браво, Вава, жарь до пеплу!” “Так им и надо!” “Все равно все пьяные!”.
И тут же затолкали Ваву и забыли, следующий претендент занял внимание публики.
- Я правнук Царя Ирода! Мне две тысячи лет!
- бронированный подросток Бугай Гаевский в канареечной кофте с колоссальным лиловым бантом взгромождается бутсами на сцену, раскланивается бритой головою. На брпоблестящем черепе - крест - накрест телесного цвета пластырь. В руке - половник с дырками.
Орет с надсадой:
- Взвод,
Цельсь
Пли!
Тиф.
Цельс!
Спирт!
Вырвало
Родину
Начерно!
Голову враг на пику вздел!
Годуновы
кровавые
мальчики,
В пиз- де!
Гром.
Граб.
Грот
Вот.
В рот:
Анекдот.
Жид меня
Повстречал
у ворот
И… живет.
Улицы
косоротятся,
Переулки
косоворотятся,
Богородица
простоволосица.
Мама, выйди,
и поглазей.
Бог, закройте,
заткните хайло газет!
Смена кадра. Диалог. Детали.
Гортанный матерок Гаевского потонул в нежном говорке русой хорошей девочки за столиком у окна. Оплыл воск по бутылочному горлу, хорошая девочка теребила ворот вышитой по льну цветиками малороссийской сорочки. И бормотала, полузакрыв глаза, своему лысому виз-а-ви бредни. Лысый бодро разделывал ножиком-вилкой бифштекс и заразительно, с причмоком, жевал. Хорошая девочка старалась перекричать гомон погреба:
- … Когда я жила у мамы в Житомире, мне няня сказывала побасенку…
- Фляки! Три! Горошек мозговой! Разварной макрель! Отмена! - настырно вклинился официант.
За узким оконцем то и дело электрически вспыхивала весенняя синева - катила фронтом на Город, против течения Реки - по всем мостам и ржавым крышам с люкарнами и воровскими чердаками - сухая ночная гроза. Вздрагивали без грома электрические разряды, с треском рассыпался свет за крестовыми рамами.
- Няня говорила… В Житомире… Воробьиная ночь со сполохами бывает раз в шесть лет… Папоротник цветет… и рябинки… Колдуны варят привороты. Петя, вы не слушаете! Петя, я так не могу, я поеду отсюда… Петя, меня тошнит! Вот жила я у мамы в Житомире…
- Люблю гра-азу в начале мая, когда весенний чтототам! - густо из живота отозвался едок Петя и скучно пожал под скатертью лягушиную девочкину коленку.
Сухие сполохи за отодвинутой занавеской - сверк-сверк!
В проходе меж столиками уже тесно танцевали пьяные потные пары с привизгом и стуком каблуков.
- Мой голос все равно не будет услышан. Это - автобиографическое.
На сцене Ида Рубинштайн, вечно шестнадцатилетняя блондинка в лиловом платье для коктейля. На тощих плечах - черная цыганская шаль с красными розами и маками. Ида прижимала бисерную театральную сумочку на лямочку к нулевой груди. Зрачки расширены. Как ангел.
Поэтесса декламировала, раскачиваясь нараспев, упирая в нос на букву “Э”:
- Виолэтта, больная сирень.
У лазорево - пенного моря.
У причала с печалью во взоре
Виолэтта - больная сирень.
Виолэтта, больная сирень,
Паруса небеса воскресили.
Бескорыстны весны клавесины
Виолэтта больная сирень.
Виолэтта больная сирень
Экзотических слез лазурее
Ты склонилась к ногам Назорея…
Виолэтта - больная сирень.
Электрический шорох кружав,
Берега Магелланов и Куков,
Чрева монстров и бисерных кукол,
В потаенном экстазе дрожат.
О, в каком из полдневных Соррент,
Я увижу твой профиль, напротив…
Мы обрушимся в прозу, как в пропасть
Виолэтта - больная сирЭнь!
На глаза Иды навернулись честные, как у трехмесячной телочки, слезы.
Чуть-чуть потекла тушь. Боже, какая чушь… Чтица изломанно спустилась по шаткой лесенке, ее немедленно схапал под локоток некто в тирольской шляпе с фальшивыми усами - и шепчет, шепчет в розовую раковину ушка атласные непристойности.
Ида устало отмахнулась - оставьте меня, самец! - и, кривя меланхолический рот намотала на вилочку яичницу - глазунью с чужой тарелки.
Под жалкий дребезг специально расстроенного пианино блондинку сменил месье Брют, инфернальный андрогин, дамский угодник, ребенок - апаш. Душа общества. Кудри, жабо, безупречный смокинг, нарцисс в бутоньерке
Брют был краток и брезглив, как кот на снегу. С публикой общался сквозь зубы. На записки принципиально не отвечал.
- Новое.
Читал снисходительно, часто приглаживая ореховую с отливом прядь на лунном лбу.
Дамы восторженно пищали носиками и заказывали крепленое крымское.
- Я провожаю умерших. Отблеск
Солнца на кровлях. Кто там? Не ты….