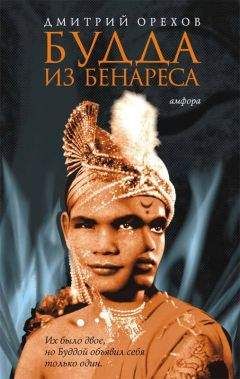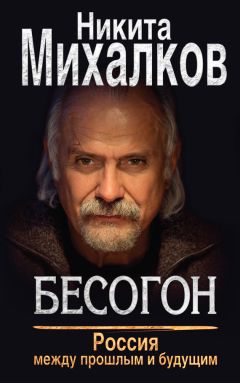Орехов Виталий - Демиургия
– Хорошо.
Зеркалову принесли попить, и пока он пил, пришел Котоев.
– Вадим Михалыч, боюсь, дело серьезно, кишечник вам зашили, за него не беспокойтесь, но с рукой… С ней дела плохи. Она у Вас в трех местах сломана, в двух перелом зарастет и будет культя уродливая, но внешняя кость остеосемургии не поддается. Не проведем ампутацию – риск сепсиса 50-60%. Прогноз внешний ужасный, видите, так что, при всем моем уважении, нужна ампутация. – Со всей серьезностью проговорил бывший ассистент.
– Котоев, а ты когда врачом стал? – не без улыбки спросил врач.
– Вадим Михалыч, хватит шутить, нужна операция, но без вашего согласия мы ее проводить не смеем.
–А все-таки, то ассистентом был, вены шить боялся, полтора года назад, помню, вообще расплакался, а тут вот уже, доктор Котоев! Слушай, да ты на войне карьеру сделаешь.
– Приказ еще не поступил, но здесь не хватает рабочих рук, а у меня опыта достаточно, я же с Вами работал, Вадим Михалыч… Вадим Михалыч, руку ампутировать? – Котоев очень нервничал. Сейчас перед ним лежал его учитель и ждал операции, но вместе с тем, он не мог заметить, что ему было приятно ощущение собственной гордости за то, что он теперь врач, а не просто ассистент.
– Я боюсь, что да. Сам чувствую, что не могу рукой пошевелить. Ампутируй кисть, не больше.
– Да как же? А операции ваши? – все-таки спросил бывший ассистент, он до последнего верил, что может и обойдется без операции.
– Ну вот! Какой же ты врач, я же сказал тебе, про операции забудь, видимо, я… отоперировался. Ты теперь сам врач, сам операции и проводи. Ампутация сейчас действительно необходима.
– Вы жесткий человек, Вадим Михайлович, очень как-то к себе жесткий. – Сказал Котоев, когда Зеркалова уже несли в операционную.
– Может, и жесткий… – сказал Зеркалов, засыпая в эфире.
…
Зеркалов уехал поздно вечером. Когда уже стемнело. Расставания с семьей не были долгими, все уже были готовы к тому, что Вадим уедет, он сам их готовил к этому с самого своего приезда. Поужинав, Михаил Алексеевич приказал готовить лошадей. Когда подали чай, лошади были уже готовы. Отужинав, Зеркалов попрощался с семейством, со слугами и со всеми. Он пробыл в поместье около месяца, вспомнив детство, отдохнув и набравшись сил. Поездка в Петербург, где ему надлежало учиться, предстояла долгая. Но все вопросы были уже решены.
– До свиданья, родные, как поступлю, напишу. – Крикнул Вадим уже с брички.
Впереди его ожидало новое, к чему стремится каждый человек, его будущее, закрытый туманом горизонт, который очень скоро, через десять с лишним лет он будет вспоминать, забываясь в эфире.
Ваня
Дождь. Последний луч сквозьоблачного солнца и дождь. Дождь не может говорить. А даже если мог — не сказал бы. Ибо и стихии не чужды чувства человеческие. Даже такой сильной, как дождь.
Когда ночью не можешь заснуть — вспоминаешь о тех, кто тебе близок. Как быть тому, у кого никого нет? Кому не о ком вспоминать? Им остается только слушать грозу. Ее и слушал Ваня. Он поехал в Чечню, потому что ему нечего было терять. А жизнь в долг надоела. Как обычно она надоедает. Он не знал, почему именно у него никого не было. Даже здесь, в Чечне молодые парни обычно сходятся, находят общий язык, а он… кто с детдома был один, и здесь себе никого не нашел. Всегда ел и спал один, как и всю свою жизнь. Это не объяснить, но некоторым суждено быть одним. Таким был и Ваня.
Когда он приехал в Чечню, он понял, что значит испытывать сильные эмоции, ему никогда не приходилось делать этого ранее. Эмоцией, которая в первые недели захлестнула его, был страх. Это не тот страх, который испытывали другие ребята, когда впервые услышали выстрелы. Не страх за жизнь, или получить ранение. Наверное, он бы не смог объяснить, чего он боится. Добросовестно выполняя приказы, он, однако, никогда не лез на передовую. Но и за спины никогда не прятался. Странная война. Никогда он не думал, что зачистка горного аула может обернуться потерей трех рот. Для него это война оставалась непонятной. Страшной войной.
В детдоме был у него, в детстве еще, человек, с которым он говорил больше обычного. Не друг, не было у него друзей, а что-то другое. Он был поваром в столовой и дежурил раз в неделю. Сергей Макарыч. Ваня помнил его имя. Но все равно не вспоминал. Умер Сергей Макарыч. Когда они познакомились, Ване было семь, а Сергей Макарычу уже шестьдесят девять лет. Сергей Макарыч тоже был одинок. Советской пенсии хватало на скромную жизнь, но слишком тяжко было по вечерам одному вспоминать жену и неродившегося ребенка. Оттого, наверное, и пошел в детдом работать. К ребятам, многие из которых тоже были одни. Как и Ваня.
– Слышь, малой, на, поешь чутка. Тут с тефтелями. – Ваня сидел в столовой один, вокруг никого не было. Он сам не знал, зачем зашел туда. От скуки, наверное.
– Спасибо. – спокойно и отречённо. Как обычно.
– Как звать-то?
– Ваней.
– Ну давай, Ванюха, шамай. Только никому, мне ж тоже попадет. – Сергей Макарыч почти улыбнулся.
– Хорошо.
Сергей Макарыч отошел. «Неразговорчивый мальчонка, – подумал он, – понятно…». Ваня сам не знал почему, на следующий день опять зашел в столовую. Но тогда дежурила Клара Васильевна.
– Пшел отсюда!
– Извините.
«Надо в четверг, – подумал Ваня, – в четверг…». Но в следующий четверг он не пришел. И через четверг. Только через месяц зашел он в столовую.
– А, Ванюха! Привет, давно не видел! Ну что? Пельмешки будешь?
– Да, спасибо.
Конечно, никаких пельменей не могло быть в детдоме. Сергей Макарыч носил их просто по четвергам. Так, на всякий случай.
– Ну как живешь тут? Не голодаешь?
– Нет, спасибо, Сергей Макарович.
– Ну славно, славно. – Теперь Сергей Макарыч точно улыбнулся. Ваня почему-то тоже раздвинул уголки рта в ответ.
– Вкусно? Я-то не знаю, любишь ты пельмени, или нет…
– Люблю, спасибо.
Они много не говорили. Так, иногда приходил воспитанник Ваня к повару Сергею Макарычу, и говорили они редкие, ненужные слова. Но бывало, Сергей Макарыч рассказывал, редко, тише, чем обычно, когда очень грустно было, или в годовщину какую. Например, смерти брата. Рассказывал немного, самое важное. О войне рассказывал, о том, как страшно было. Что немца не боялся, и умереть не боялся. Но все равно, страшно было, очень страшно. Рассказывал, как плакал, когда взяли Берлин. Все радовались, пили, и ликовала страна Советская, а он плакал. 2 мая 1942 г. умерла его беременная жена. И пожить-то вместе не успели. В 38 расписались. Рассказывал, что война для тех, кому терять нечего, вроде Гитлера или Сталина. А людям есть что терять. Каждому человеку.
Вспомнил Ваня Сергея Макарыча и пожелал ему земли пуховой. Умер Сергей Макарыч. А на следующий год вышел Ваня из детдома. Два года армии. Срочная служба. Также тихо, без друзей. Бывалоче, тоже, сержант посмотрит на Ваню, сплюнет, и пойдет дальше. Нелюдимым он был.
После дембеля пошел на маляра. Учиться просто было. И работать просто. Так просто, что он запил. И денег стало сразу не хватать. Пить в одиночестве глупо, но никто никогда Ване об этом не говорил. И работа перестала получаться. И наступили 90-е.
Однажды, когда шел дождь, ограбили Ваню. Так ограбили, что он месяц в больнице пролежал. И решил тогда, что уйдет, как Сергей Макарыч, уйдет на войну.
После выписки еще чего-то месяца два по Москве суетился. Ни с кем не прощался: не с кем, и пошел на войну. Тогда воевать никто не хотел, людям было, что терять. Денег не было, а терять что – было. У Вани не было ни того, ни другого. Когда пришел к военкому, документы подал, спросил его военком только:
– Сынок, уверен?
– Сирота я. Да.
И записан был в 58-ую Кавказскую. Уже тогда в Чечне неспокойно было. Выбили федеральные войска. Уже артиллерия что есть мочи била по Грозному. А Ваня боялся. Не знал чего, но боялся страшно, аж кровь стыла. Стрелял – боялся, нес караул –боялся. Даже ночью в полевой палатке боялся. И никто бы не заметил, если бы Ваня не сказал однажды рядовому, что рядом лежал.
– Страшно.
– Да, брат, всем страшно. Давай спать.
В эту дождливую ночь солдаты уже храпели. Сторонний человек даже бы сказал, что в палатке уютно. Конечно, это не так. И конечно, не для Вани, он вообще не знал, что значит уют.
Когда только из армии дембельнулся, с девушками пытался отношения наладить. Да как-то все не получалось. И опять никто не мог сказать, почему. И он девчонкам нравился, и они ему, а так все не получалось. Как-то и говорить, вроде, не о чем было. Девчонкам скучно становилось, и они его бросали. Одна даже, как бросила его, назвала тихо «дебил». Ваня слышал, но ничего не сказал в ответ. Так и бросил он попытки личную жизнь наладить. И все как-то забыли о существовании Вани. Кроме одного человека.
Это в июне, уже в Чечне было. Старлей приказал занять Джагуршийскую высоту. А там две деревни были, с боевиками. Одну сразу взяли, почти без потерь. А со второй так не получилось. И для снайперского обстрела неудобная позиция была. Вроде кое-как, потеряли полроты, но на подступы подошли. Начали переговоры. Безуспешно. Опять выстрелы. Опять переговоры. Полковник поставил ультиматум: вертолетный обстрел через 30 минут, если боевики не оставят позиции. Прошло 25. А в деревне помимо боевиков были мирные жители. Они оказались заложниками, многие из них поддерживали боевиков. Полковнику было на это насрать. И девочка там была, лет восьми, ее Ваня еще до выстрелов увидел. Через пять минут ее ожидала верная гибель.