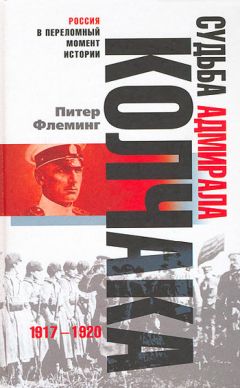Гинс Г.К. - Сибирь, союзники и Колчак т.2
Что касается перспектив революции, то дружеское тяготение некоторых союзников к Политическому Центру заставляло их представлять в розовом цвете всё, что казалось благоприятным для восстания и слишком сгущало краски в отношении правительства.
Так, например, на вокзале сообщили, что конвой Верховного Правителя совершенно разложился, а охрана председателя Совета министров стала настолько опасна для самого Пепеляева, что он предпочел ее распустить. На самом деле конвой и охрана до последнего времени держались твердо, хотя их усиленно разлагали повстанцы в Нижнеудинске, свободно допускавшиеся чехами к поезду Верховного Правителя. Прокламации, а главное, неизвестность обстановки не могли не смущать солдат, но, кроме, может быть, единичных случаев, они разошлись, да и то далеко не все, только тогда, когда адмирал и председатель Совета министров отдали соответствующее распоряжение, приняв охрану чехов.
С вокзала пришло также известие, что всё восстание происходит с ведома и благословения генерала Пепеляева.
Относительно Дальнего Востока представители Политического Центра (это усиленно распространялось и в городе) утверждали, что там переворот вполне подготовлен и совершится на днях.
Все это заставило Совет министров поддаться настроению в пользу капитуляции.
К счастью, формального решения вынесено не было, голосование имело целью лишь выяснение настроения Совета для руководства делегатам. Последние приняли голосование к сведению, но, судя по духу дальнейших переговоров, держались твердо и согласие на капитуляцию имели лишь на запас.
К трем делегатам присоединен был Папечек, отстаивавший одобренную Советом идею, что Политический Центр должен обязаться созвать земский собор. Была предложена также кандидатура Бурышкина, но ее отклонили. Тем не менее Бурышкин поехал на вокзал по приглашению Червен-Водали.
Жуткие часы
В «Модерне» должны были остаться из полномочных членов Совета только Смирнов и я.
Около половины шестого все делегаты отбыли. В шесть «Модерн» уже был охвачен большим волнением. Комендантская часть Совета министров первая узнала, что Сычев приказал войскам очистить фронт. Я потребовал доказательств, а меня просили отдать приказ о расформировании части. Взять на себя такое распоряжение до выяснения результатов переговоров я не решился.
Все эти события были неожиданны. Но деловые визиты, которые в эти трагические минуты мне приходилось принимать, свидетельствуют, что все учитывали момент ликвидации, не угадывая ее роковой близости. Одни просили выяснить условия расчета с Русским Бюро печати, другие ходатайствовали о расчете с судовладельцами. Было, конечно, не до того.
Еще утром ряд обывателей «Модерна» покинул его холодные и неприветливые в эти дни стены. Выехали некоторые из товарищей министров. Вынесены были вещи Смирнова. Обо всем этом мне докладывали из команды, которая ревниво следила за тем, остается ли правительство в гостинице или бежит.
В семь часов я зашел к адмиралу Смирнову. Его номер был закрыт. Ушел и он. Остались товарищи министров и я.
Положение не из приятных. Солдаты оставили посты и сбились в кучки. Офицеры образовали что-то вроде митинга. Раздавались явно враждебные по адресу правительства возгласы.
— Бежали предатели... Где они, кто остался? Разделаться с ними!
— Господа, бросайте ружья, идем по домам!
— Что вы лжете, никого здесь нет. Конечно, бежали! Где Червен-Водали, Бурышкин, Ханжин, Смирнов, Волков?
— Почему Волков, он не член правительства?
— Все равно, кто здесь есть? А, вот главноуправляющий!
— А где генерал Сычев?
— Уже бежал?
Через некоторое время мне принесли собственноручный приказ Сычева: «Уходить с фронта и стягиваться к оренбургскому училищу для отступления».
Что это — провокация или мне неизвестный план, согласованный с решением Червен-Водали?
Только благодушие большинства русских солдат спасло в этот момент последних обитателей «Модерна» от жестокой расправы возмущенных защитников правительства.
Я решил выбраться из «Модерна» и навести справки в английской и японской миссиях о положении дел. В коридоре удалось пробраться, воспользовавшись моментом, когда офицеры объявили, что Сычев бежал, а обязанности коменданта принял на себя генерал Потапов. Внимание всех было поглощено этим сообщением.
На улице меня задержали пьяные офицеры народно-революционной армии, но от них удалось ускользнуть.
Я вернулся еще в «Модерн» к 10 часам, уже зная от союзников, что переговоры на вокзале продолжаются, но идут нервно и без надежды на благоприятный исход, что фронт уже снят, отдельные части сдаются, и неприятель вступает в город.
Было опасно возвращаться в «Модерн», но я знал преданность и дисциплинированность своей команды, знал, что без моих приказаний она останется на своих местах, и я считал своим долгом решить с нею вместе — что делать?
Решили не отступать — слишком поздно; кроме того, офицеры не хотели идти за генералами, которые лишились их доверия.
Я ушел из «Модерна» незадолго до того, как к нему подошли части революционных войск.
Переговоры в 11 с половиною часов были прерваны, не дав положительных результатов.
Власть Российского Правительства к Политическому Центру не перешла, так как передачи не произошло, и согласия на такую передачу нигде официально заявлено не было.
Политическая смерть лучше измены убеждениям. Российское Правительство было убеждено в бессилии Политического Центра, и оно не могло сдать последнему власти. Случайное настроение Совета министров, сказавшееся в заседании 4 января, политически выявлено не было.
Утром 5 января на улицах Иркутска были расклеены объявления о падении «ненавистной» власти Колчака и о принятии власти Политическим Центром.
ГЛАВА XXVII
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Едва только закончилась катастрофа, как загудели гудки, ожила станция, зашевелились эшелоны.
Спешно, один за другим, мчались на восток поезда иностранных представителей, грузились миссии, эвакуировались иностранные подданные, как будто бы новая власть, народившаяся при благожелательной поддержке иностранцев, была им врагом, а не другом.
А между тем фронт еще не был ликвидирован, еще существовали остатки армии, еще большевизм не победил.
Но никто из иностранцев не заботился больше об армии. Некоторые иностранные эшелоны оказывали гостеприимство отдельным политическим деятелям. Вывезли многих американцы, кое-кого из офицеров — французы, но больше всего, целыми поездами, вывозили русских японцы.
Если поспешность проявлялась в выезде из Иркутска, если здесь весь транспорт был захвачен иностранцами, то еще более это проявлялось и еще тягостнее чувствовалось к западу от Иркутска, где отрезывались пути отступления армии адмирала Колчака.
Наболевшие чувства тех, кто находился на фронте, вылились в двух письмах. Одно было написано полковником Сыробоярским на имя генерала Жанена, другое — капитаном польских войск на имя Сырового.
Выдержки из письма генералу Жанену
«Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения и лично известный Вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к Вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося ныне в Сибири, при его освобождении от рабства. Казалось, год назад мы получили заслуженно-справедливо братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья-чехи свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную смертельную могилу. Какой стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями! Одним порывом, короткой победной борьбой, чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцарей без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. Русский народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями.
Назначение Ваше на пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с Вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры, добровольцы и солдаты, более трех лет боровшиеся с Германией за общие с Вашей родиной идеалы, своей грудью прикрыли уходивших чехов. Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не столько боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи-коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояние русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям-русским, сражавшимся за Уральским хребтом. Но прошел почти год, и мы вновь свидетели небывалого в истории человечества предательства, когда славяне-чехи предали тех братьев, которые, доверившись им, взяли оружие и пошли защищать идею славянства и самих их от большевиков. И вот, когда они, спокойно оставив в тылу у себя братьев, оторвавшись на тысячи непроходимых верст, приняли на себя все непосильные удары и, истомленные и обессиленные, начали отходить — поднялись ножи каинов славянства, смертельно ударивших в спину своим братьям. Я не знаю, как и кем принимались телеграммы от русских вождей-патриотов, полные отчаяния, со смертельным криком о пощаде безвинных русских бойцов, гибнущих с оружием в руках, защищая не пропускаемые чехами эшелоны с ранеными и больными, с семьями без крова и пищи, с женщинами и детьми, замерзающими тысячами. Я прочел телеграмму генерала Сырового, которая еще более убедила нас всех в продуманности и сознательности проведения чехами плана умертвления нашего дела возрождения России. Кроме брани и явного сведения личных счетов с неугодным чешскому командованию русским правительством и жалкой попытки опровергнуть предъявленные к ним обвинения в усугублении происходящих бедствий русской армии и русского народа, в ней не было ничего соответствующего истине. А что думает Сыровой о брошенных и подставленных под удары большевиков братьях-поляках, сербах, румынах, кровавыми жертвами устилающих свой путь?