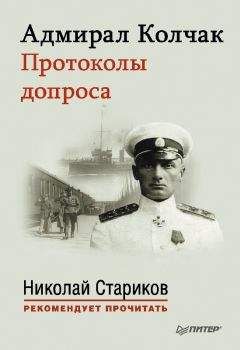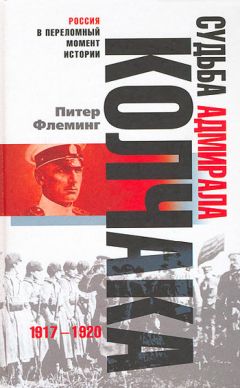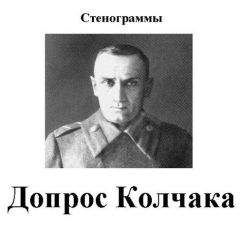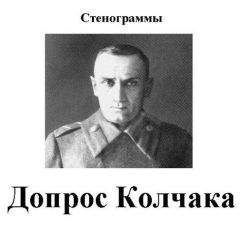Сергей Дроков - Адмирал Колчак и суд истории
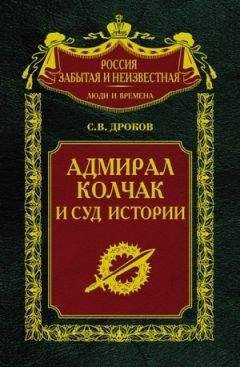
Обзор книги Сергей Дроков - Адмирал Колчак и суд истории
Сергей Владимирович Дроков
Адмирал Колчак и суд истории
ВВЕДЕНИЕ
Современная международная обстановка и внутрироссийская политическая ситуация подтолкнули историков к изучению «психологии войны» как феномена, в котором на первый план помимо политики и экономики выступает природа личности в ее прямой зависимости от окружающих обстоятельств[1]. Наиболее ярко это проявляется в общественном интересе к попыткам реабилитации Верховного правителя России А.В. Колчака. Постановка вопроса имеет полярные стороны: безусловное признание заслуг российского адмирала перед Отечеством – и юридические выводы о его «преступлениях против мира и человечности».
На одну чашу исторических весов оказались при этом положены диаметрально противоположные «оценочные» критерии: социально-политический строй, система правления и деятельность лидера, давшего своим именем название исторической эпохе – эпохе «колчаковщины». В связи с этим уместно вспомнить слова Г.В. Плеханова: «Влиятельные личности… могут изменять индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление»[2].
Казус же состоит в том, что современная российская демократическая Фемида, используя архивные документальные первоисточники из «Следственного дела по обвинению Колчака Александра Васильевича и других», оказалась автономной от следственной фактуры. Так, юридический аспект решения Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации, отказавшей в реабилитации, основан на «данных 9 допросов, которые были проведены сотрудниками Чрезвычайной следственной комиссии в 1920 году»[3].
При этом вне зоны внимания следователей и Военной коллегии оказалась определяющая историческая фактология: организационные предпосылки окончательного этапа борьбы с реакционным режимом «правобольшевистской атамановщины», именуемой «колчаковщиной»; инициатор создания Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) и ее цели; состав, регламент работы (порядок ведения допросов) ЧСК; предъявленные Колчаку обвинения и юридическая правомочность текстов допросов.
В соответствии со 2-й статьей Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (с изменениями на 4 ноября 1995 г., по состоянию на 1 декабря 1995 г.) порядок реабилитации распространяется «на граждан Российской Федерации… подвергшихся политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года…». Был ли гражданин России А.В. Колчак подвергнут политическим репрессиям?
Ответ на этот вопрос раскрыт в материалах Чрезвычайного революционного трибунала (ЧРТ) при Сибирском революционном комитете (Сибревкоме) «по делу самозваного и мятежного правительства Колчака и их вдохновителей». При вынесении приговора на 11-м заседании 30 мая 1920 г. председатель трибунала И.П. Павлуновский[4] декларировал, что «декретом Совета народных комиссаров, все правительство Колчака было объявлено вне закона Считая, что в настоящее время, когда острый момент гражданской войны миновал, советская власть нашла возможным, объявленное вне закона, правительство Колчака судить»[5].
За год до этого приговора, 16 августа 1919 г., Совнарком и ВЦИК в обращении к рабочим, крестьянам и всем трудящимся Сибири заявили: «1. Бывший царский адмирал Колчак, самозвано наименовавший себя «Верховным правителем», и его «Совет министров» объявляются вне закона. Все ставленники и агенты Колчака и находящегося в Сибири союзнического командования подлежат немедленному аресту»[6].
С учетом данного обстоятельства мы и будем рассматривать применение к «бывшему царскому адмиралу» 3-й статьи Закона «О реабилитации», которая перечисляет мотивы реабилитации, которой подлежат лица (подвергнутые уголовным репрессиям по решению ВЧК, привлеченные к уголовной ответственности и признанные социально опасными) в их исторической последовательности.
С нашей точки зрения, в зале суда современной России требуется именно такой подход в оценке ярлыков и конкретных персонифицированных обвинений.
Считаю своим приятным долгом поблагодарить за предоставленные документы и фактические сведения руководство и специалистов Центрального архива ФСБ России: В.С. Христофорова, В.К. Виноградова, Л.И. Ермакову, С.В. Конину; начальника отдела международных связей Администрации Национальных архивов и документации США г-на Донна Нила; руководителя Московского бюро Международного института социальной истории (Нидерланды) И.Ю. Новиченко; специалиста Государственного архива Одесской области Украины О.В. Коновалову; руководство и специалистов Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива Иркутской области, Российского государственного архива Военно-морского флота.
Особая признательность и благодарность за консультации, практические советы, помощь и фотографии заместителю директора Института российской истории РАН профессору В.М. Лаврову; председателю правления общественного фонда для создания в Москве храма, музея и других сооружений в память о жертвах политических репрессий с 1917 по 1985 г. кандидату технических наук С.С. Зуеву; семье Сафоновых (лично И.К. Сафонову) и кинодраматургу А.К. Уварову; творческому коллективу научно-практического журнала «Отечественные архивы».
АДМИРАЛ КОЛЧАК И СУД ИСТОРИИ
Глава 1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЭТАПА БОРЬБЫ С «КОЛЧАКОВЩИНОЙ»[7]
В начале XXI века отечественные историки столкнулись с необходимостью формирования новой концепции Гражданской войны в Сибири на базе разработки иных подходов. Это обстоятельство во многом определяется состоянием историографии 1920—1980-х годов, сложившейся на основе канонических для той поры источников: а) произведений В.И. Ленина, б) стенограмм, протоколов и постановлений съездов компартии и съездов Советов, в) центральных печатных органов большевистской партии и советского правительства, г) сборников документов, опубликованных Центрархивом и истпартовскими журналами, а также воспоминаний активных участников борьбы с так называемой «колчаковщиной».
Первые из этих двух пунктов не могут способствовать выработке нового, более объективного и аргументированного подхода к нашей проблеме, так как носят абстрактный партийно-публицистический характер и географически оторваны от конкретных мест событий.
К тому же в августе 1919 г. Сибревкому, учрежденному ВЦИКом и Совнаркомом, была делегирована часть руководящих функций в отношении местных сибирских органов власти, а также предоставлено право вносить изменения и дополнения в декреты, постановления и распоряжения высших органов советской власти, диктуемые «сибирской спецификой», что де-юре позволяет говорить об автономности сибиряков от руководящих партийных директив Москвы.
Другие составные части налаженной в прошлом источниковой базы, даже без их внутренней взаимосвязи, могут послужить достаточным поводом к размышлениям[8].
10 января 1920 г. газета «Правда» опубликовала на первой полосе заметку «Катастрофа», в которой было провозглашено: «Мы ликвидировали самого Колчака: он в наших руках». В поясняющей части этой заметки как-то неоднозначно были описаны причины, приведшие к «ликвидации»: «Колчак и его министр Пепеляев[9], вместе с золотом, украденным в Казани, захвачены собственными солдатами в Иркутске. Но эти солдаты взяли в плен своих начальников только потому, что сами взяты в плен красными повстанцами».
В отличие от «Правды» «Известия ВЦИК» на первых порах ограничивались уведомлением: «По непроверенным пока сведениям… имеются данные, что Верховный правитель Колчак, со всем золотым запасом, арестован красным партизанским отрядом», а на другой день «красный партизанский отряд» сменился «полковником Пепеляевым»[10].
Лишь 14 января Москва узнала о том, что свержение Омского правительства «организовано эсерами в союзе с Гайдой[11] и при содействии американцев… У эсеров, меньшевиков, крестьянского союза и политического земского бюро, заключивших соглашение, был первоначальный план: свергнув Колчака, образовать независимую Сибирскую республику от реки Оби до Владивостока… в Иркутске образовано правительство из названных групп»[12] (Политический центр. – С. Д.).
Однако такой поворот событий был проигнорирован центральным печатным органом большевиков, посчитавшим, видимо, неоспоримым выраженное 10 января собственное мнение: «Нет больше Колчака, нет «Верховного правителя»… Речь идет теперь уже не о борьбе с ним, а о суде над ним, о возмездии за все его преступления. Повстанцами разбит и Семенов[13] – дальневосточный самозванец, соперник Колчака и, может быть, спутник его по дороге от власти в зал революционного трибунала»[14].