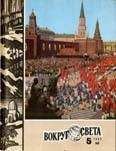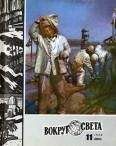Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №09 за 1980 год
Солнце грело почти по-летнему. Была в прикосновении его лучей какая-то убаюкивающая ласка, располагавшая к невольной улыбке, молчанию, мечтательной отрешенности. Такие дни дарит начальная осень, как бы прося у человека прощения за то, что слишком зыбки отпущенные ему на долю радости, и вот уже всему близится конец. И он украдкой смеживает веки и вдыхает полной грудью эту теплынь, слушает дремотный лепет реки, скользящей неведомо куда, ловит сквозь прижмур смутный свет ее стремени…
Крут, костист и раскатист противоположный берег. Конникам и обозникам в один мах не взять его крутизну. Зато оттуда, с гребня, если повалит вниз людская орава, то уж как раз в один мах сверзится прямо в воду. Нет, с такой кручи отступать никак нельзя.
Великий князь знал от разведчиков, что Мамай сейчас находится на расстоянии одного дневного перехода от переправ. Но на всякий случай отдал распоряжение: всем ратным сменить походную одежду на боевую. Теперь каждая жила в человеке натянута, как тетива, десница полагается на оружие, а душа — на други своя.
И еще было одно распоряжение. Когда последняя обозная телега въехала с моста на берег, плотники принялись расколачивать переправы. Мало кто уже и видел это, но знали все, что так будет сделано. Пока перевозились обозники, передовые достигли вершины увала, оттуда открылся вид на просторное необитаемое поле, волнообразные покатости которого освещала боковым золотистым светом вечерняя заря. Прекрасен был вид этой земли, убранной по краям в парчовые ризы дубрав; кое-где в низинах она воскурялась уже ладанными клубами тумана.
Был час вечерней службы, в походных церквах под открытым небом зазвучал праздничный тропарь:
— Рождество твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной...
Пели и в великокняжеском шатре, стоя перед шитым деисусом, вывешенным в виде алтарной преграды.
— ...из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш...
Пение ширилось, тропарь подхватывали тысячи голосов, где-то чуть опережали, где-то немного отставали; и по полю, накатываясь друг на друга, струились мерцающие волны звучаний, словно звук исходил от самих этих озлащенных гряд и погруженных в тень долов.
— ...и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Когда отошла служба, распевшиеся ратники еще долго то там, то здесь зачинали знакомую каждому с детских лет песнь.
Зажглись огни среди обозов, в остывающем воздухе потянуло запахом дымка, душистого варева. Где-то далеко, за невидимым отсюда Доном, дотлевала и покрывалась сизым пеплом заря. А на другой стороне, над потерявшим очертания полем, печально выглянула из мутного зарева луна...
В этот-то час к шатру великого князя тихо подъехал верхом князь и воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец. Накануне они уговорились, что с наступлением ночи отправятся вдвоем, никого не предупреждая, на поле, и Волынец покажет своему господину «некие приметы». Это были слова самого Волынца, и что он разумел под ними, Дмитрий Иванович пока не догадывался. Но зная, что о Боброке поговаривают как о ведуне, который-де не только разбирает голоса птиц и зверей, но и саму землю умеет слушать и понимать, он поневоле дивился этому таинственному языческому дарованию волынского князя и без колебаний согласился с ним ехать. Душа его жаждала сейчас всякого доброго знака, пусть косвенного, пусть невнятного, пусть языческого, но хоть чуть-чуть приоткрывающего завесу над тем, что теперь уже не могло не произойти.
Они ехали медленно, почти на ощупь и, как казалось, довольно долго... Затея была нешуточно опасная, в любой миг можно было столкнуться с ордынской конной сторожей, но рядом с молчаливым Боброком Дмитрий Иванович чувствовал себя уверенней и много старше своих тридцати лет... Из них уже лет десять, как великий князь московский знал этого человека. Волынец выехал на московскую службу из дальней Волыни, отчего и получил это свое прозвище. Когда-то одна из самых густозаселенных и богатых земель Киевской Руси, ныне Волынь под властью Литвы сильно запустела. В этих обстоятельствах Дмитрий Михайлович затомился и решил податься в края, где был бы ему, воину, простор для настоящего дела... Боброк сразу пришелся по душе москвичам. Он приехал явно не для того, чтобы подкормиться несколько лет на каком-нибудь спокойном наместничестве и потом податься к иному хозяину. В нем угадывалось желание служить истово и безоглядно, он как бы обрел новый смысл существования и служил не просто великому князю московскому и владимирскому, но чему-то гораздо большему... Истовый боец в любой повадке изобличит себя: в том, как безошибочно, и краем глаза не глядя, просовывает носок сапога в стремя; в том, как царственно, будто на троне, сидит в седле; в том, как невозмутимо ложится спать на холодную землю, укрывшись одним лишь пестро расшитым княжеским корзном — плащом. Не о таких ли сказывается в древних былях, что они под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены? Он умеет по копытным следам исчислить величину вражеского отряда. Он знает травы, от которых кровь тут же перестает сочиться из раны. Он по голосам птиц точно угадывает, есть ли кто чужой в лесу... Сколько княжеств пересек Дмитрий Михайлович, пока добрался в Москву от своей родимой Волыни, сколько переплыл рек, сколько перепрыгнул шляхов, и копытом не чиркнув о песок, а не заблудился ни разу и здесь ездит невозмутимо, будто с детства знает наизусть все русские дороги и русла, тропы и беспутки... Восьмилетней давности поход на Рязань стал первым большим и самостоятельным поручением Москвы Дмитрию Боброку. Под его руку великий князь отрядил тогда несколько воевод. В бою при Скорнищеве москвичи крепко осадили зарвавшегося Олега Рязанского. Позже Дмитрий Иванович посылал своего тезку-воеводу в поход на Булгар, на Брянск и Трубчевск, и всякий раз удача неизменно сопутствовала Волынцу, так что и сам он со временем как бы сделался живой приметой, и поневоле думалось: участвует Боброк в рати — быть победе...
Земля под копытами звучит глухо и выдыхает остатки накопленного за день тепла. Но вот заметно посвежело. По этому, а также по наклону лошадиных спин можно догадаться, что спускаются в низину.
Пересекли неглубокий ручей и стали взбираться наверх, и опять обвеяло им лица едва уловимым дуновением тепла.
Тут они попридержали коней и прислушались. Дмитрий Иванович знал уже, что, пока его полки переправлялись через Дон, ордынцы тоже не стояли на месте. До их ночного становища было сейчас не более восьми-десяти верст. Он затаил дыхание и напряг слух до предела.
Да, то, что он услышал, не вызывало никакого сомнения: перед ними посреди ночи безмерно простиралось скопище живых существ, невнятный гул которых прорезывался скрипом, вскриками, стуком, повизгиванием зурны. Но еще иные звуки добавлялись к этому беспрерывному гомону: слышалось, как волки подвывают в дубравах; справа же, где должна была протекать Непрядва, из сырых оврагов и низин вырывались грай, верещание, клекот и треск птичьих крыл, будто полчища пернатых бились между собой, не поделив кровавой пищи.
Глуховатый голос Боброка вывел Дмитрия Ивановича из оцепенения:
— Княже, обратись на русскую сторону.
То ли они слишком далеко отъехали, то ли угомонились уже на ночь в русском стане, но тихо было на той стороне, лишь в небе раз от разу вздрагивали слабые отблески, словно занималась новая заря, хотя и слишком рано было бы ей заниматься.
— Доброе знамение эти огни, — уверенно произнес Волынец. — Но есть еще у меня и другая примета.
Он спешился и припал всем телом к земле, приложив к ней правое ухо. Долго пролежал так воевода, но Дмитрий Иванович не окликал его и не спрашивал.
Наконец Боброк поднялся.
— Ну, что, брате, скажешь? — не утерпел великий князь.
Тот молча сел на коня и тронул повод. Так они проехали несколько шагов, держа путь к своему стану, и Дмитрий Иванович, обеспокоенный упорным молчанием воеводы, опять спросил:
— Что же ничего не скажешь мне, брате?
— Скажу, — придержал коня Боброк. — Но прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай. Я перед множеством битв испытывал приметы и не обманывался ни разу... И теперь, когда приложился ухом к земле, слышал два плача, от нее исходящих: с одной стороны будто плачет в великой скорби некая жена, но причитает по-басурмански, и бьется об землю, и стонет, и вопит жалостливо о чадах своих; с другой стороны словно дева некая рыдает свирельным плачевным гласом, в скорби и печали великой; и сам я от того гласа поневоле заплакал было... Так знай же, господине, одолеем ныне ворога, но и воинства твоего христианского великое падет множество.
Дальше они ехали молча, только когда от стана послышались негромкие окрики предупрежденных сторожей, Волынец еще раз попросил: