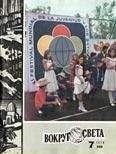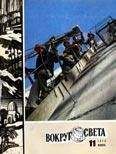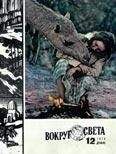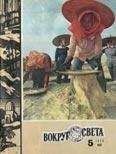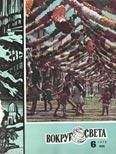Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №03 за 1978 год
Игорь Фесуненко
Лиссабон
Курс на юг
Первые дни рейса всегда проходят в заботах и хлопотах. Надо распаковывать ящики с оборудованием, монтировать приборы, да и закрепить их по-штормовому не мешает: впереди зимнее Японское море.
Впрочем, море это оказалось к нам на удивление благосклонным, прошли его при слабом волнении и умеренном ветре. «Прошли» — это наш «Витязь» и небольшое научно-исследовательское судно «Акванавт», которое мы должны перегнать из Владивостока в Новороссийск. Вместе с нами оно совершит полукругосветный рейс и останется работать в Черном море.
Вошли в Корейский пролив... Ветер резко усилился, нагоняет волны. «Витязь», корабль довольно большой, и то зарывался н водяные валы, а на «Акванавт» было просто страшно смотреть: волны хозяйничали на его палубе, грозили накрыть вместе с мачта ми, и мы облегченно вздыхали, когда «Акванавт» снова показывался на гребне. Уловив маленькое затишье, капитан «Витязя» Артур Адольфович Шиман решил взять нашего спутника на буксир. Не знаю, насколько лучше стало морякам «Акванавта»: и на буксире он шел в сплошном ореоле брызг, — но зато от нас не отставал. Довольно скоро мы вышли из пролива, где, как говорят моряки, «тянет, словно в аэродинамической трубе». В Восточно-Китайском море стало потише, а в Южно-Китайском и вовсе заштилело. Решили опробовать приборы и механизмы — встали на станцию.
Станция — это остановка корабля в точке моря или океана с заданными координатами. Выйдя на точку, «Витязь» разворачивается к ветру «рабочим» бортом. С него в воду с помощью лебедок на специальных кабелях или металлических тросах спускают приборы. Спустя некоторое время, когда приборы подняты, «Витязь» разворачивается, теперь другой борт становится «рабочим», и вновь приборы идут в воду.
Первый порт на нашем пути — «бананово-лимонный» Сингапур. Его приближение мы почувствовали за несколько дней: на пути чаще стали попадаться огромные танкеры, сухогрузные суда, лайнеры. Каждые пятнадцать минут порт встречает или провожает судно. Кроме главного острова, в состав Республики Сингапур входит еще несколько десятков — совсем крохотных. С одним из них — Сентозой — Сингапур соединен канатной дорогой, вроде тех, что в горах служат для подъема лыжников, но с той только разницей, что здесь внизу море.
Недавно на Сентозе открыли Морской музей. Он-то прежде всего и интересовал нас. В музее собраны древние малайские челны и парусники. На таких судах тысячелетия назад малайцы плавали во внутренних индонезийских морях, выходили в Индийский океан, где открыли и заселили Мадагаскар, лежащий далеко на западе у Африканского материка. Открытие это совершено вопреки географической логике: малайским мореплавателям пришлось преодолеть огромные пространства, тогда как африканцам следовало бы пересечь только Мозамбикский пролив. Но факт остается фактом. У современных жителей Мадагаскара — мальгашей очень много общего с малайцами и не в пример меньше с африканцами...
После нескольких дней стоянки в Сингапуре «Витязь» снова в море, наш курс на северо-запад — в Бенгальский залив. Вообще-то: если придерживаться существующих определений, то Бенгальский залив совсем не залив, а море. Вот Аравийское море, наоборот, залив. Но такова уж сила традиции. Вода в Бенгальском заливе фантастической синевы и прозрачности. Не случайно индийский физик Ч. Раман, ежедневно видя перед собой ультрамариновые просторы Бенгальского залива, разработал теорию определения цвета, пригодную для самых прозрачных вод морей и океанов.
Между прочим, поэты, воспевая синь моря, прославляют тем самым... его пустынность. Жизнь в синих водах намного беднее, чем в других акваториях: прежде всего цвет указывает на то, что в воде меньше водорослей. Речь идет не о крупных водорослях, скажем, о ламинарии, широко известной под именем «морской капусты», а о мельчайших, даже одноклеточных, которые надо рассматривать в микроскоп. Крупные же водоросли встречаются обычно не в открытом океане или море, а живут на шельфе, на мелководье. Пожалуй, единственное исключение — саргассы, огромное скопление которых в западной Атлантике дало имя удивительному морю, нигде не омывающему сушу.
Ни с помощью зондирующих оптических приборов, ни в пробах, взятых с разных глубин в Бенгальском заливе, биологи «Витязя» не обнаружили заметного содержания микроскопических водорослей — фитопланктона. Бенгальская морская пустыня — необозримое пространство воды цвета спокойного индиго. Изредка к борту подплывают неутомимые тунцы. У них мощные обтекаемые тела. Тунцы в беспрестанном движении — в бедных тропических водах надо искать пищу постоянно, а температура рыб превышает температуру воды. Отчетливо видны в прозрачной воде акулы. Моряки с вполне оправданной неприязнью относятся к этим хищникам. Но если отвлечься от неприязни, акулы в своем роде совершенство. Триста миллионов лет назад появились они и дожили до наших дней без каких-либо признаков вырождения и деградации.
В районе наших работ как бы сходились две географические крайности: «Витязь» слегка покачивался на пологой зыби, пришедшей из далекой и суровой Антарктики, а на эту зыбь накладывались, делая ее круче, небольшие волны, рожденные слабеющим уже северо-восточным муссоном, несущим сухой и прохладный воздух из центра Азии.
По мере продвижения к северу погода изменилась. На смену угасающему муссону подул порывистый юго-западный ветер. Изменился и оттенок морских вод — он стал зеленым. Зеленый цвет — цвет океанских лугов и пастбищ: живности стало много больше. Несколько раз подплывали к «Витязю» любопытные черепахи. Нет, пожалуй, более неуклюжих и медлительных существ, чем сухопутные черепахи, но морские — другое дело: в воде они проворны и маневренны.
Если станция «Витязя» приходится на темное время суток, то с борта спускается мощная электрическая лампа: в освещенном ею пространстве кипит жизнь. Перегнувшись через поручни откидного мостика, нависшего над водой, внимательно вглядывается в воду Касьяныч. Я знаю Григория Касьяновича Фисунова более двадцати лет. В прошлом моторист, он из-за своей природной любознательности стал помогать биологам, а затем и вовсе перешел работать лаборантом в научный состав «Витязя». Талант у него к ловле разной океанской живности необыкновенный. Вот в освещенном кругу появилась летучая рыба: как на мгновенной фотографии, она распласталась в воздухе, растопырив крылышки-плавники. Для Касьяныча этого довольно. Ловкое движение — за борт летит сачок, привязанный веревкой к его руке; подсечка, рывок — и добыча трепещет в сачке. Рассмотрев ее как следует, моряк небрежно сует рыбу в посудину с формалином. «Свой» среди биологов, Касьяныч нет-нет да и пересыпает свою речь латынью. «Диодон — это вещь!» — восклицает он, и сачок летит в воду. Вскоре мы рассматриваем забавного иглобрюха, способного при испуге раздуваться и принимать форму шара: представьте себе футбольный мяч, усеянный торчащими во все стороны иглами, — и перед вами предстанет законченный образ диодона.
Словно серебряные стрелы, выпущенные из лука, проносится стайка кальмаров. И хотя бы два из них обязательно станут добычей Касьяныча. На палубе моллюски теряют свою красоту, сжимаются, превращаясь в кусок студня. Кальмаров несколько видов. На глубинах водятся гигантские лупоглазые «головоноги» с глазами до 30 сантиметров в диаметре. Длина самых больших глубоководных кальмаров вместе с щупальцами около 20 метров. Не случайно в среде моряков ходит немало историй о колоссальных кальмарах — кракенах, которые нападают на шлюпки и даже шхуны, увлекая их в океанскую пучину. Такие истории-легенды известны и в Бенгальском заливе. Проверить их правдивость трудно, но вот яростную борьбу кальмаров с кашалотами у поверхности воды действительно наблюдали моряки. Есть даже замечательные фотографии кашалота, тело которого по всей длине покрыто отпечатками присосков гигантского моллюска. К сожалению, морским зоологам не попадались в руки живые глубоководные кальмары, но мертвых, выброшенных на берег штормом, находили, куски их тел обнаруживались в желудках кашалотов...
Верхний 100-метровый слой воды называют «производственной мастерской океана». Здесь протекает один из самых важных для жизни на планете процессов — фотосинтез; здесь, усваивая энергию солнца и питательные соли, содержащиеся в морской воде, рождаются микроскопические водоросли. Их клетки содержат хлорофилл и другие пигменты, поэтому скопления водорослей придают морской воде зеленый оттенок. У нас на «Витязе» есть оптические приборы, способные отмечать изменения в цвете моря, а это сулит большую выгоду. Ведь морские водоросли — первое звено в длинной пищевой цепи океанских обитателей. Есть немало рачков и даже рыб, которые охотно пасутся на морских лугах и питаются непосредственно фитопланктоном. Например, такую промысловую рыбу, как анчоус или сардинелла, обычно ищут там, где есть скопления водорослей. Отсюда практическая задача: искать места пастбищ. Лучше всего делать это с искусственных спутников Земли, вооруженных оптической аппаратурой: ведь спутник способен просматривать большие пространства водной поверхности и оперативно сообщать о своих открытиях промысловым кораблям. Но прежде чем установить такую поисковую аппаратуру, необходимо детально изучить явление в море, где всегда можно зачерпнуть пробу воды с водорослями, чтобы их виды и численность определили специалисты. Это одна из работ, которой непрерывно занимаются на «Витязе» биофизики и биологи.