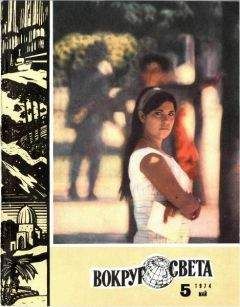Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №02 за 1974 год
Он налил в алюминиевую кружку густейшего горячего чая, отворотил от ковриги ломоть и принялся торопливо есть. Не хотелось, чтоб видели, как он будет уходить, потому что, если увидят, у него может и не хватить духа уйти.
Он попил чаю, прикрутил фитиль в лампе и толкнул дверь. Разбухшая, она не подавалась, точно держала его. Ударил плечом, распахнул, вышел. Собаки свернулись в клубки и зарылись в снег. В свете, падавшем из окошка, Колька увидел вожака, поднявшего голову. «Лежи, бродяга!» — сказал он и потрепал собаку за ухо. Отошел на несколько шагов, оглянулся. Вожак непонимающе глядел на него. Колька махнул рукой и заторопился по чуть приметной дороге. После тепла сразу бросило в дрожь. Одежда налилась неприятным холодом.
Окошко землянки тусклым пятнышком едва пробивалось сквозь снег. И через несколько шагов сгинуло. Рубахин гнал прочь мысли о бригаде. Никогда еще, никогда ради себя не подводил он других. Колька торопился отойти подальше, точно там, на расстоянии, эти мысли потеряют над ним власть. Он бежал и бежал, поднимаясь по пологому скату на перевал, силился представить, как Яна встретит его, а вместо этого видел сгорбленного Коялхота, торопливого Милюта, измученные упряжки. Он понимал, что, если пароход уйдет, навага останется на льду. Куда девать ее? А это труд. Всю зиму бригада жила ради вот этих дней. Но он-то свое отмолотил честно. Да, да. А сейчас у него дело поважней, чем эта навага...
Ветер толкал в спину и помогал бежать, порывы доносили гул разбуженного моря. Оно, если расходится, взломает лед по-над берегами... Пароход уйдет, так и не забрав всей наваги. Колька старался не думать о тех, кто остался на льду. У них есть дом и семья. А у него ничего нет. Ничего, кроме приглашения Яны.
Дорога пошла под уклон. Время было показаться огням. Они там, в лощине, затянутой мглой.
Колька протер густо заледеневшие, тяжелые ресницы и брови, пробежал еще немного. Огни стрельнули внезапно и совсем близко.
Колька остановился. Чуть в стороне от всех светился огонек. Ба, это же его, Колькино, окошко. Неужели Яна поджидает его? Этого не могло быть. Но окно-то горело!
Побежал Колька.
Одним махом вскочил на крыльцо, шумно выдохнул, чтоб унять расходившееся сердце, шагнул на порог, щурясь от света.
Но улыбка, готовая слететь с губ, не слетала. Колька прислонился к дверному косяку и глядел на парня в тельняшке с закатанными рукавами, который сидел на койке. А позади парня, выставив плотно сжатые коленки, сидела Яна. Колька видел, как ее руки испуганно слетели с плеч парня.
Значит, это и есть тот человек, который жил здесь прежде Кольки. Тогда, осенью, Яна сказала, что выпила весь свой чай в этой избе. Видно, не верила, что этот парень вернется.
Колька выдавил неловкое: «Здравствуйте!», повернулся к печке и протянул над горячей плитой мозжившие ладони.
И тут Яна сорвалась с койки, тонкими пальчиками принялась распутывать узел веревки, которой он был подпоясан.
— Давай поищи для него стакан, — негромко сказал парень.
Скосив глазом, Колька только теперь заметил перед койкой табурет, застланный газетой, на табурете сковородку с жареной картошкой, бутылку водки.
— Поужинай с нами, что ли, — равнодушно сказал парень.
А что, в самом деле? Колька разделся. Сел на краешек койки.
Парень сидел рядом с Яной, касаясь ее плечом. Колька видел, как поглядывала Яна на парня, и у Кольки сжалось сердце. Он выпил стакан безвкусной водки, пожевал жареной картошки. Парень рассказывал, кажется, о том, как судьба привела его сюда вновь.
А Колька чувствовал, что все дальше уходит от них. Вот появился этот парень, и Яна забыла, что сама же пригласила Кольку на день рождения. Даже об отце не спросила.
Словно бы со стороны Колька увидел себя, уходившего в ночную пургу. И таким одиноким, таким потерянным показался он себе в необъятной мятущейся ночи Олховаяма, что испугался этой одинокости, того, что заплутается он и никто никогда не найдет его в этой пустыне. Уляжется пурга, и его как не было...
Он допил чай, вежливо и сухо попрощался. Вроде бы он — и не он, потому что настоящий Колька был уже далеко...
Колька оделся и вышел. Ему, правда, советовали не дурить, не уходить на ночь глядя. Но особо не удерживали.
Из всех дорог у Кольки была теперь одна — туда, на берег, к тем, с кем ломал зимнюю путину на льду залива, ждал появления солнца. Рано-рано бригада выходила на лед. Плясала, отбиваясь от наседавшего холода, вытаскивала и опрастывала вентеря из майн.
Светало медленно, и темнело скоро. Но никто не уходил в тепло, пока работа не сделана. Колька сроднился с бригадой, ближе отца-матери стали ему Милют и Коялхот.
От морозов покраснело, распухло Колькино лицо, и к нему, обожженному стужей, больно было притронуться. В землянке оно нестерпимо горело.
Руки тоже покраснели и распухли. Когда вытаскиваешь из воды вентерь, из него так и хлещет жгучая соленая вода. В рукавицах несподручно, к чертовой матери их. А мокрые чруки то в одном месте, то в другим прихватывал мороз и жег все больней. Мороз перекидывался на нос, щеки, уши. В самый разгар жжения вдруг — бац, точно удар электрическим током, вспыхивала белая звезда, и сразу никакой боли.
— Три скорей, ознобил! — кричал тогда Милют или Коялхот, опекавшие Кольку.
Но не бросишь работу. Вон и другие белыми звездами украшены. А ничего, не умирают. Лишь когда вентеря освободят от наваги и смайнают под лед, а навагу разложат, как на огромном противне, на утрамбованной площадке, захватывал Колька пригоршнями зернистый колкий снег и растирал руки и лицо. Тер, пока опять с болью не приливала отхлынувшая кровь. Он страшился входить в тепло. Ознобленное лицо и руки начинали млеть, мозжить так, что хоть на стенку лезь. Спасением была вода. Сунешь туда руки — и боль пропадала. Вот и обступала бригада таз с водой. Молча кривилась, приплясывала, точно какой-то обряд северный творила.
Отойдет бригада с мороза, и тогда ноздри защекочет духовитый запах. Это Коялхот между делом успел обед сварганить. Дымится украинский борщ, на огромной сковородке шипит жареная навага — такое можно отведать только здесь, на майне. Мгновенно просыпался зверский аппетит, вспоминали, что целый день на одном чайке прожили... Но потом слипались глаза от жары и сытости. Сила уходила из рук, и не хотелось шевелиться и думать о том, что утром начнется все сначала...
Но бригада пережила зиму. Дождалась солнца и парохода. А вот он, Колька... Рубахин брел, загораживаясь от встречного ветра, и старался не думать, что он им скажет. Придет — и все. Пусть они прогонят его. Он заслужил это. Но, кроме бригады, ему некуда идти.
Когда дорога вдруг повернула влево и пошла вниз, он подобрался. Это был спуск перед землянкой.
Вот блеснул ее огонек. Войти не хватало духа. Под окном Колька увидел свою упряжку. Вожак поднял голову. Колька потрепал его за густой заснеженный загривок, собаки вскочили, отряхиваясь. Колька подвел их к горе наваги. Возле наваги проворно двигалась тень. Гора заметно убавилась. Теперь оставалось совсем немного.
Колька нагрузил нарту и столкнулся лицом к лицу с бригадиром.
Милют не удивился, увидев его.
— Не ушел пароход, значит? — с дрожью в голосе спросил Рубахин. Глупо вышло. Если бы парохода не было, зачем тогда нагружать нарты?
— Поезжай, а я нагружу свою и догоню, — сказал Милют.
— Ладно! — и пошел, пошел Колька убавлять гору наваги.
— Хак! — воскликнул он и, рванув за баранту, помог упряжке стронуть нарту.
— Гляди, чтоб не легли! — услыхал он голос Милюта.
— Не лягут! — вскричал Колька, воспрянув духом. Разве думал он, что после всего будет вот так... Не лягут. А упадут, Колька на себе дотащит нарту.
Впереди зачернела упряжка. Колька обошел ее стороной. Рядом с нартой, понурясь, брел Коялхот. Он и не заметил, что его обогнали. Тоже тянул из последнего. Пройдя еще немного, Колькина нарта внезапно остановилась. Собаки повалились и начали запаленно хватать снег. Они косили глазом на Кольку и, работая лапами, старались зарыться поглубже. Лишь вожак стоял, повернувшись к упряжке. И тоже ждал: сядет ли человек на нарту, уронит голову да так досветла и не встанет. Или поднимет упряжку крепким остолом?
— Эй! — тревожно крикнул, наезжая, Милют. — Подымай...
Но его упряжка тоже легла. Бригадир, покрикивая, работал остолом направо и налево. Собаки, перепутав постромки, визжали, сплетались в клубок, старались забежать Милюту за спину, опять ложились, и ему никак не удавалось поднять их.
Колька глядел на вожака. Крупный зверюга, жестокий. Милют отдал Кольке лучшего пса. Он никогда не сбивался с дороги, никогда не падал, как бы ни уставал на огромных северных перегонах.
Видно, почуяв, что от человека толку не будет, вожак вдруг подобрался в комок и, распружинясь, бросил тело в гущу собачьей своры. Упряжку в один миг размело, раздуло крепким ветром. Она заголосила, завыла на самых высоких нотах. Вожак крутился в своре, молча и остервенело рвал и раскидывал собак.