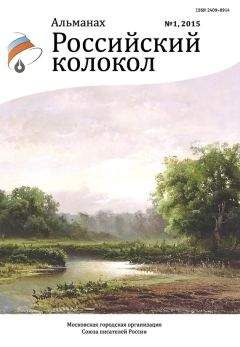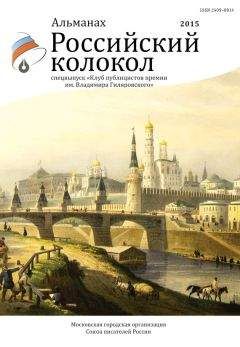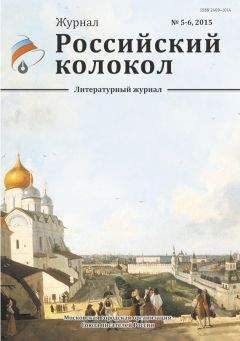Альманах Российский колокол - Российский колокол, 2015 № 4
Если бы взрослые были еще и умными или, по крайней мере, почаще вспоминали бы себя в этом нежном возрасте, то они поняли бы, что за внешней хаотичностью детских игр и забав выстраивается весьма последовательный строй межличностных отношений, используя который, можно было бы избежать многих эксцессов, конфликтов, проступков и… неоправданных наказаний. Дети по-настоящему живут в играх, тогда как взрослые в жизни зачастую играют. Несерьезный народ – эти взрослые. Они – те же дети, только испорченные.
– Марик, Марик, – услышал я вдруг сквозь неровный детский шум приглушенный, но твердый призыв.
Я узнал этот голос сразу. И нервы сразу напряглись во мне. Это был голос мамы. Я мгновенно выключился из игры, и для меня как бы наступила тишина. Я завертелся, оглядываясь по сторонам. Но во внутреннем дворе мамы не было. И вот снова раздался зовущий и волнующий меня голос. И я увидел за дощатым забором силуэт женщины. Не обращая ни на кого внимания, я бросился к забору.
Это была она – мама, мамочка! Моя, наша любимая мамочка. Ожидание ее спряталось куда-то глубоко-глубоко, но чуть искра коснулась уснувшей было боли, как произошло мгновенное воспламенение всех эмоций, пошедших на вылет от внутреннего давления.
– Мама, мама, где ты? Ты придешь за нами? Возьми нас, пожалуйста!
– Марик, родной ты мой! Погоди, успокойся. Я сейчас не могу. Я вас потом… Я вас не забыла. Я мимо иду, посмотреть хотела… Как ты? Как Боря?
Я не понял вопроса и говорил свое:
– Мама, ты зайди. Вон и Боря играет. Зайди – у нас хорошо.
Я побежал вправо. Там в углу были раздвижные доски, и я надеялся через дыру попасть к маме в объятия.
Она боком пошла в том же направлении. В глазах у меня зарябило от ритмики чередующихся досок. А сзади уже послышался голос Юрии Львовны:
– Бойков! Марик, сейчас же вернись.
Но я уже высунулся головой: мама стояла передо мной. И когда она встала передо мной, она оказалась немножко не такой, какой я помнил ее. Мамой, но какой я еще не видел.
Она была в фуфайке, изрядно потертой, какого-то усредненного цвета, в юбке мышиного отлива, с ногами, обернутыми шарфами, в черных резиновых калошах. Но, главное, лицо ее было напряженным, без улыбки, а глаза – тревожными. Ее вид и сейчас стоит перед моими глазами, как фотографический снимок, который потом я много-много раз разглядывал как реальный. Это странно. Но дело, думаю, не в зрительной памяти, а в эмоциональной вспышке, разрядившейся у меня изнутри. Такие «снимки», в отличие от фотографических, никогда не блекнут.
Мама подошла ко мне вплотную, неловко опустилась на одну коленку и поцеловала меня в щеку, глаза, нос, еще куда-то. Сзади чувствовалось приближение Юрии Львовны.
Мама засуетилась, достала из кармана маленький сверточек, развернула его – там были два кусочка сахара. Она тут же их опять завернула, сунула мне в карман пальтишка, поднялась:
– Марик, я еще приду. Возможно, скоро. Береги Бореньку. Ты у меня умница.
Сзади подошла Юрия Львовна. Под ней противно скрипел снег, и под этот скрип она сказала:
– Гражданка, вы кто? Почему нарушаете порядок?
Полуобернувшись в ее сторону, я возмутился:
– Она не гражданка. Это моя мама.
Пока я отвечал Юрии Львовне, моя мама повернулась и, ни слова не говоря, пошла прочь.
Я отвернулся от Юрии Львовны и пошел искать Борю. Пережитая радость и острая досада боролись во мне и мучили меня.
Скоро я разыскал Борю: он играл с Машей в прятки. Отдал ему кусочек сахара. А другой, откусывая по чуть-чуть, мы съели с Машей. Сахар был сладкий, гораздо слаще дававшегося нам чая или киселя. Маше он очень понравился, и я остался доволен собой.
Через два дня, а может, неделю со мной и Бориской случилось из ряда вон выходящее событие. Нас с ним растолкали ночью, сводили в туалет, переодели во все чистое и вывели во двор. Было безветрие, но с крепким морозцем, светло от луны и искрящегося снега.
Делалось все тихо и без дополнительного света. Таинственность происходящего дополнилась большой черной лошадью, стоящей у парадного входа, запряженной в широченные сани с большим ворохом сена. Могучий мужик в огромном тулупе прохаживался рядом, держа длинные провисшие вожжи.
Мы не понимали, что с нами делают, и никто ничего не объяснял. Но когда вышла Прасковья Яковлевна в своем обычном пальто внакидку, я успокоился. Видимо, так было надо. Она отдала мужику какие-то бумаги, свернутые в трубочку. Он снял с себя огромный тулуп, оставшись в другом, поменьше, уложил его на сено, нас – на тулуп. Прасковья Яковлевна помогла нас хорошенько завернуть в него, выделив щелочку для глаз и дыхания, и, не проронив ни слова, отпрянула от нас, оставив наедине с небом.
Лошадь тронулась, сани заскрипели. Глядя в звездное небо, я углубился в себя. Вспомнил маму, недавно появившуюся возле нашего детского дома. Дом удалялся и становился не нашим. Но там оставалась Маша. И тут меня, точно Петька пнул, осенило: «А как же мама придет, если нас там не будет?»
Я заворочался. Но возница прикрикнул на лошадь – и она побежала трусцой. Я понял, что говорить уже нечего и некому.
Бориска, как и положено маленькому, быстро заснул, а я поглядывал по сторонам, по крышам и деревьям узнавая, где мы едем. Когда проезжали мимо центральной колокольни, к нам присоединилась, замыкая сзади, еще одна лошадь с санями. Возницы обменялись приветствиями, и мы пошли вместе. С неба мой взгляд упал и уткнулся в лошадь, шедшую следом. Когда после небольшого отставания она догоняла нас под окрики своего хозяина, то непременно пыталась дотянуться своей мордой до сена на наших санях. И я побаивался, как бы по ошибке она не прихватила и меня.
Но глаза у нее были нехищные, а попытки совсем не удачные. Повторяющееся однообразие вскоре усыпило и меня.
Проснулись мы с Бориской на двух кроватях по соседству. Нас, видимо, по прибытии решили не будить: так, одетыми, но без пальто и валенок, положили прямо на одеяла.
Таким вот образом мы оказались в громадном по территории, с несколькими одно– и двухэтажными деревянными зданиями, с общей столовой, клубом и баней, детском круглогодичном лагере. Теперь я догадываюсь, что здесь был когда-то лагерь для ссыльных или заключенных, который в связи с войной попросту перепрофилировался. Я вспоминаю, что, когда нас выстраивали на торжественные линейки, нас было очень много: разновозрастных и разнополых. Маленькие дети жили вместе, а постарше и большие – разведены.
Места вокруг лагеря были чудные. Дорога, упиравшаяся в поселок, дробилась на тропки и замирала у дверей. Снизу поселок огибала река, питавшая баню водой. Поверх крыш высились покатые, разновысокие, как бы рождающиеся друг от друга холмы, убранные лесами. За рекой тоже леса, до самого горизонта, без единой колокольни или заводской трубы. Словом, девственная природа.
Приняли нас хорошо. В группу, в два-три раза большую, чем в Писцове. Дети здесь были более сытые и жизнерадостные. Но что поразительно: при таком количестве детей память о событиях, связанных с собственной жизнью, сохранила очень мало сцен, эпизодов, происшествий. Мы как бы были на одно лицо, и распорядок упрощал наши судьбы. Но за этим крылось одно очень важное обстоятельство: надорванные в личных судьбах, мы здесь выздоравливали. Страна, вопреки войне, хотела жить и берегла нас. В отличие от нынешних доброхотов, могущих запросто отключить в подобном поселке электричество, отопление или воду, и все при этом будут делать вид, что не знают, что делать.
Кое-кто, конечно, может со злорадством съехидничать: мол, вот, заключенных заменили детьми. Но я назвал эту главку «Ссылка» вовсе не потому, что нас с Борькой туда якобы «сослали».
Лагерь был преотличный. А потому, что нас элементарно спрятали от матери. Чтобы не дергала, не рвала сердце. Нас и увозили-то ночью, тайком, по той же причине, по которой сама мать однажды ранехонько отправила меня с бабой Маней «по миру», чтобы никто не видел, никто не знал, ничего никому не мог сказать. Да, много несуразного было в нашей истории, но были и люди в наше время. Настоящие! «Не то, что нынешнее племя»…
Первое, что мне навсегда врезалось в память по прибытии, – баня. В Писцове нас мыли редко. Мыли нянечки, по одному, в какой-то плохо приспособленной комнате. А здесь, поскольку детей было много, баня работала почти постоянно.
Воспитательница, молодая симпатичная женщина, собрала всех мальчиков из группы, посчитала по головам и гурьбой повела в баню. С опозданием. Обычным, поскольку, когда мы пришли на место, предыдущая группа только-только выходила. А надо сказать, что детей было трудно загнать в баню, а потом, когда они входили во вкус (шалили, брызгались, обливались], еще труднее было их выгнать.
Я был новенький. Естественно, мне было отдано большее внимание. У всех смотрели больше на руки, уши, ноги. За меня воспитательница в длиннополой полотняной рубахе, живописно прилипающей на лучших выступах тела, взялась с головы, попутно рассказывая, что и как, в какой последовательности надо делать, чтобы стать чистым и розовым.