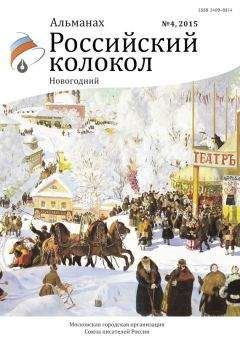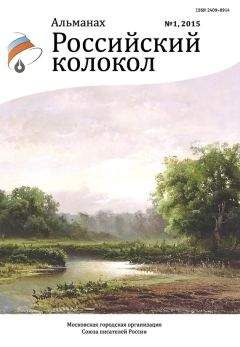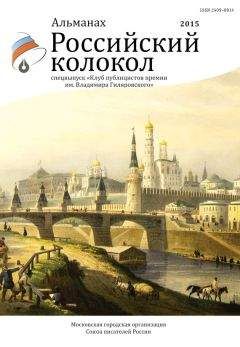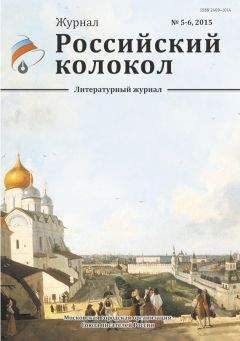Журнал Российский колокол - Российский колокол, 2015 № 7-8
В стране свирепствовал повсюду «красный террор», в столице люди от искусства за кусок сала и хвост селёдки готовы были на всё, чтобы угодить новой власти. Кем надо было быть, чтобы бряцать на лире, чтобы превращать в литературу эту кровавую вакханалию и чудовищное насилие, воспевать самые зверские злодеяния русской революции.
С чего начались неприятности поэта Боброва в революционной России? С революционного идиотизма Александра Блока, с его пошлой и похабной поэмы «Двенадцать» и с его вершиной дурновку-сия и литературщины – «Скифами», грубой подделкой под Пушкина («Клеветникам России»). Сергея Павловича возмущал также и сам факт Блока в «Чрезвычайной комиссии по расследованию деятельности царских министров» при Временном правительстве Керенского, а потом его служба в качестве личного секретаря Луначарского, этого «комиссара просветительного, сочинителя скоморошьих ляс и бабинькиного кочета».
По словам Марии Павловны, Сергей Павлович не любил показного оптимизма в литературе и в то же время не любил писателей, скупых на проявление гуманизма. Недостаточности человеколюбия Сергей Павлович никому не прощал. Пуще всего он презирал людей, страдающих ликантропией (оборотничеством), в народе их называют идейными перевёртышами (8). Он никогда не был сторонником рациональной поэзии, терпеть не мог так называемую идейную литературу и патриотическую лирику бывших символистов, футуристов, имажинистов и акмеистов. Коробила его и так называемая «митинговая, эстрадная» поэзия Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, стихи которых, по его мнению, требуют не читателя, а экзальтированного зрителя, не уютного домашнего уединения и не тишины читального зала, а стадиона и площади в духе идей пролетарского поэта Александровского («На смуглые ладони площадей/ Мы каждый день выходим солнце слушать!»).
Этих молодых поэтов он не мыслил «вне эстрады и Колизея» Ему не нравилась их агрессивная манера исполнения, эти их зазывания и вопли то под Маяковского, то под Пастернака: «Шумят, кричат, камлают лозунги и прописные истины, а поэзии в этом шуме не слышно. «Поэзия – это возможность выразить словом невыразимое». Он отрицал кино как искусство, способное гармонизировать духовно-эмоциональный мир человека, считал кино одним из видов развлечения и не больше. Его удручало, что многие советские люди судят о своей истории по кинофильмам, которые в силу своей излишней идеологизации слишком далеки от правды жизни.
«Свободной душе протянул горизонт на милость рассказа покинутых женщин на милость священству заброшенных комнат, где муха зелёная бьётся беспомощно над бездной великой слепящего света…»
Как будто человек зарезанный
На этой площади лежит!
А дрожь рук говорит, что нечего
Теперешнее ожидать.
Смех легче был бы не кончен,
Когда бы не тени цветков,
Зарезанный убежит с площади,
Голый бежал вперед.
Противоположная улица
Повлечет следующий труп;
Так разорваны горла накрепко
На площади в шесть часов.
У меня есть книжка стихов Сергея Боброва «Эжен Делакруа – живописец» (М., 1971) с дарственной надписью Марии Павловны. Потом в библиотеке-музее Маяковского, что на Таганке, я познакомился с остальными книгами С.П. Боброва, с его стихами, прозой и литературной критикой.
И еще у меня где-то в домашнем архиве находится машинописный вариант сборника стихов «Глоссы и глоссарий», в котором Сергей Павлович учёл метрический аспект «математического стихосложения» Колмогорова. Там же, среди материалов к диссертации, долго хранились машинописные копии переводов на русский нескольких стихотворений Рильке, сделанных Сергеем Павловичем незадолго до смерти. Признаюсь честно, стихи Боброва мне тогда не понравились, они показались мне деланными, придуманными, чрезмерно правильными. Сейчас я их воспринимаю близко к сердцу, может быть, потому, что мне сегодня на душе так же больно и печально, как и ему тогда… в 1971 году…
Стихотворный сборник под малопонятным советскому читателю названием «Глоссы и глоссарий» стал как бы одной из уловок Сергея Павловича миновать негласную «корпоративную» цензуру литературных генералов и хоть как-то заявить о себе как поэте, который ещё жив-здоров и даже плодотворен. «Глосса» – термин узкопрофессиональный, для советской цензуры чисто научный и тем самым безобидный. (Это слово я впервые услышал от Марии
Павловны, когда она рассказывала мне о своих попытках вернуть Сергея Павловича из казахстанской ссылки в Москву).
Проще было бы назвать эту книжечку стихов «Азбуковником» или «Тезаурусом», но Бобров, не без подсказки Колмогорова, решил спрятать свои поэтические этюды под очередное лингвистическое исследование, в основу которого он, умелый литературный мистификатор, определил рукописные словари непонятных и необычных слов («Азбуковников» XVI–XVII вв. Максима Грека) и древние шумерские глоссы XXV век до н. э. И это понятно, ведь с функциональной точки зрения в глоссах аккумулировалась своеобразная метаязыковая функция языка, при которой язык использовался для его изучения, а не для изучения быстро меняющегося внешнего мира. «В глоссах отразилась застывшая лава прошлого мировоззрения». Сегодня мне непонятно то мстительное злопамятство советских литературных начальников, которые в каждой книге Боброва видели угрозу их творческому реноме как главных «инженеров человеческих душ». Меня весьма удручают и продолжают безмерно печалить факты бессмысленного насилия большевиков над своими жертвами, как перед их смертью, так и после неё – жестокие избиения осужденных перед самим расстрелом, контрольный выстрел насмерть замученных во время пыток и последующее осквернение их праха и могил (9).
Да, это факт, Сергей Павлович многое знал об их постыдном прошлом, об их тайной и явной ликантропии, «идейном оборотничестве». Он многое знал, но после всего пережитого в кокчетавской ссылке и после неё, за 102-м километром Ярославского направления, в г. Александрове, он был для них безопасен. Это было так очевидно! Никому не был опасен тогда этот почти сломленный системой, больной и старый человек. Но они продолжали бояться его, честного, нелицеприятного, инакомыслящего и много знающего. Увы, с этим ничего не поделаешь, ибо такова суть тоталитарной власти, которая даже в зените своего могущества начинает бояться своей тени, мелко дрожащей на кровавой стене своей бесчеловечной эпохи. Прав, тысячу раз был прав Михаил Булгаков, когда устами своего мрачного героя сказал: «Трусость – самый тяжкий порок». Марии Павловне, этой сухонькой и слабой старушке, было очень сложно пробить и протаранить этот глухой железобетонный сговор. В ту пору она могла искать поддержки не у членов Союза писателей СССР, а только у видных математиков того времени А.Н. Колмогорова и А.И. Маркушевича, с которыми, как и с физиками, власть тогда считалась и в условиях «холодной войны» вынуждена была их уважать. Ей было тогда очень трудно, она понимала, что ей надо спешить завершить все важные дела – издать хотя бы мизерным тиражом значимые, неопубликованные за последние 20 лет произведения и поставить надгробие на могиле Сергея Павловича. Она умерла в конце 1974 года, когда меня уже не было в Президиуме АПН СССР, но нашлись добрые люди, которые помогли ей частично завершить главное – поставить надгробие на могиле своего многострадального супруга и передать его дневник, незавершённые и завершённые, но не изданные труды в ЦГАЛИ на вечное хранение. В этом ей существенную помощь оказали А.Н. Колмогоров и молодой математик-лингвист М.Л. Гаспаров, который оставил интересные воспоминания о Боброве и посвятил памяти Сергея Павловича – «старейшины русского стиховедения» – свою книгу «Современный русский стих». Низкий поклон всем тем, кто помнит и хранит память о наших славных деятелях русской культуры, искусства и науки, как об известных, так и малоизвестных, почти забытых. Воистину верно сказал Ремизов: «ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ».
1. Маркушевич Алесей Иванович (1908–1979), родился в г. Петрозаводске Олонецкой губернии Российской империи. Выдающийся советский педагог и математик, действительный член и вице-президент АПН СССР. Библиофил и большой знаток по рукописной и первопечатной книге. Автор трудов по теории функций, по истории науки, педагогике и методике преподавания математики в школе. Его труд о бесконечном (числовом) ряде, о ряде сходящемся и расходящемся в бесконечном числе, о ряде гармоническом – это, по определению Колмогорова, математическая поэма на тему бесконечной геометрической прогрессии (А.И. Маркушевич. Ряды. М., Высшая школа. 1961).
2. Детская энциклопедия (в 12 томах). Под редакцией А.И. Маркушевича. М., Академия педагогических наук СССР. 1971-78. Изд. 3.
Из его остальных трудов по математике необходимо также отметить: 1) «Популярные лекции по математике». М.-Л., 1951–1954; 2) Краткий курс аналитических функций. М. 1957; 3) Алгебра. Учебное пособие. М., 1960; А.И. Маркушевич. Ряды.