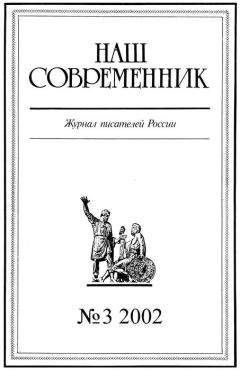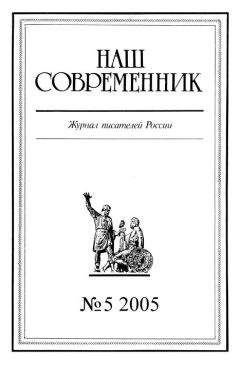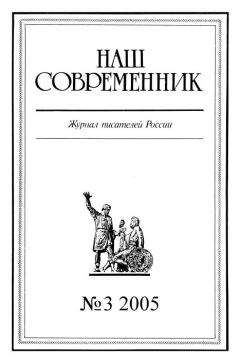Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2005 № 01
Такой случай судьба предоставила мне в 1990 году: редакция журнала «Новый мир» в лице Ирины Роднянской — одного из наиболее глубоких литературных критиков нашего времени — предложила мне написать о только что вышедшей книге, посвященной творчеству Георгия Свиридова. Я тогда удивился и растерялся: сборник специальный, музыковедческий*, я же ни нотной грамоты не знаю, ни к какому инструменту в жизни не прикасался, сведения по музыке — на общегуманитарном уровне, — что я могу сказать о такой книге?
Правда, однако, и то, что музыка в моей жизни издавна была для души примерно тем же, что воздух для тела. Еще с отрочества благодаря хорошей музыкальной памяти и благословенному советскому радио у меня на слуху оказалась, в сущности, вся симфоническая и вокальная классика, я знал и пел, сверх прочих романсов, песен, арий, а также оркестровых шедевров, весь шаляпинский репертуар, увлеченно размахивал руками над проигрывателем, мечтая о профессии дирижера. Музыке я обязан множеством моментов несравненного счастья, даримого то Большим залом Московской консерватории, то радиоконцертом, то пластинкой, а то и летним днем одного из 70-х годов: мы с семьей и друзьями жаримся на солнце под Угличем, в деревне с навсегда дорогим сердцу названием Деревеньки, перед нами, царственно сверкая, расстилается-катит Волга, на песке стоит транзистор, и из него звучит до крови родная симфония Калинникова. Солнце в сияющей голубизне, банька из бревен, с востока серебристо-седых, с запада золотых, зеленый сосновый бор на островке посреди реки. Волга, Калинников и мы — всё это тогда слилось в какой-то единый, ослепительный, блаженно длящийся миг сбывшейся мечты, торжество всеобщей гармонии (не подобное ли что-то ощущал Моцарт, когда в его воображении вспыхивала не написанная еще симфония, вся разом?).
То счастье, которое дает музыка, это в сущности, в конечном счете — удостоверение нашей внутренней сродности тому, чему лучшее из секулярных определений — «музыка сфер»: непосредственное чувствование человеческой душой своего божественного происхождения и действительного бессмертия. Но тем самым музыка есть и своего рода наука для души, школа метафизики бытия и человеческого духа. Если бы у меня, исследователя Пушкина, думающего не только о словесности, но и о человеке, об истории и культуре, «звездном небе» и «нравственном законе», о жизни и о России, — если бы у меня спросили об учителях, то в первую очередь я назвал бы не пушкинистов — предшественников и старших коллег, — а, с одной стороны, великую дисциплину по имени классическая филология (древнегреческий и латынь, изучавшиеся мной в МГУ), с другой — симфоническую музыку. Я назвал бы Баха и Достоевского, Шаляпина и Станиславского, назвал бы Бетховена, Грига и Шопена, Чайковского и Лемешева, всё то и всех тех, кому и чему обязан я умением мыслить не только в пределах филологической специальности, но в широком бытийном — полифоническом — контексте.
Настал момент, и в этом ряду учителей появилась музыка Свиридова. И с тех пор без нее мне трудно представить мое культурное существование на протяжении многих лет, а порой и мою литературную работу.
Когда случилась первая встреча с ней, не припомню точно, но случилась именно в связи с Пушкиным — хотя как исследователь я к Пушкину еще и не подступался, всё было впереди. Я услышал свиридовские романсы, и главное, что выделил для себя и запомнил — «Роняет лес багряный свой убор…».
Как известно, пушкинские романсы Свиридова — вещи в большинстве ранние, но уже классически совершенные, замечательные не только глубиной, смелостью и красотой, а и редкостным «слухом на автора», стремлением и умением внимать и с наслаждением повиноваться авторскому слову и духу. В романсе же «Роняет лес…» услышалось нечто совсем особенное, с чем я редко встречался даже в прославленных романсах на пушкинские стихи. Там было: Пушкин и Глинка; Пушкин и Римский-Корсаков; Пушкин и Рубинштейн и т. д. А здесь — Пушкин и… Пушкин! Такое тождество стиха и музыки, интонация и самая мелодия не совсем сочинены композитором, скорее непонятным способом изображены самими стихами: то ли Свиридов просто «перевел» это в ноты, то ли у Пушкина, что называется, так и было. Нечто сходное с подобным полным совпадением есть, может быть, — из того, что мне известно, — у Бородина в романсе «Для берегов отчизны дальной» (особенно в начале) и в «Урну с водой уронив…» Кюи.
Но с наиболее точным подобием такого абсолютного слуха на интонацию и мелодику текста я столкнулся много позже. Тогда только-только научился читать, то есть складывать буквы и слова, мой сын. Я указал как-то ему на первую строку стихотворения «Я помню чудное мгновенье……», и чуть только он начал читать, я ахнул: ребенок, не знающий содержания стихов, не умеющий еще держать в глазу более двух коротких слов одновременно, произнес слова «Я помню…» сразу на восторженном выдохе, то есть прочел в той вдохновенно восходящей, вертикальной интонации, которая — я понял, — стало быть, неким образом записана у Пушкина вот этими самыми тремя слогами.
И тут мне стало упорно припоминаться, что нечто подобное однажды уже было; наконец я сообразил, что это — случай свиридовского романса «Роняет лес…», в котором композитор слышит, как музыка истекает из самого пушкинского слова и стиха.
Всё это, как оказалось позже, имело непосредственное отношение к выработке моей собственной методологии изучения Пушкина, включающей как непременное условие произнесение вслух пушкинского текста — его, так сказать, интонационно-фоническую идентификацию. Чем дальше, тем больше я убеждался, что «главное», «немое» чтение и восприятие Пушкина утаивает от нас громадную, порой даже ключевую, часть смысла изучаемого текста. Кажется, я единственный из пушкинистов, не мыслящий ни филологического, ни философского анализа текста Пушкина без его «озвучания» (в том числе, разумеется, и публичного). В записях (радио, пластинки, телевидение) моих лекций и бесед, исследовательских композиций музыка играла роль камертона: пока в голове не зазвучат мелодии (чаще всего симфонические), наиболее близкие моей теме и материалу, я не мог начать писать текст. Приходила музыка — и на бумаге возникали первые слова.
Так вот, очень часто это была как раз свиридовская музыка («Маленький триптих», «Метель», «Пушкинский венок» и др.); она звучала в моем радиоцикле 70-х годов «Пушкинский час», она заняла центральное место — между Шостаковичем и Бахом — в альбоме пластинок (1981), на которых я записал композицию «Пушкин. Времена года», во многом предуказавшую направление, характер, методологию моей исследовательской работы (и, кажется, понравившуюся Георгию Васильевичу: о необходимости переиздания альбома есть упоминание в записях, вошедших в книгу «Музыка как судьба»*; позже (2003 г.) появится музыка Свиридова и в телевизионном цикле «Пушкин. Тысяча строк о любви»…
Вот только память моя, легко принимающая в себя тексты и мелодии, во всем остальном отвратительна — в частности, можно сказать, антимемуарна. То немногое, что написано в воспоминательном роде, возникло решительно по какой-то странной случайности. К примеру, не помню, когда совершился мой первый, как это сейчас говорят, контакт с Георгием Васильевичем (письменный? телефонный?). Впрочем, откуда-то и с какого-то времени я привык знать, что он читал мои работы и вообще следил за моею деятельностью (радио? телевидение 70–80-х годов?). Знаю лишь, что в 1987 году, когда в свет вышло второе, дополненное издание моей книги «Поэзия и судьба», я каким-то образом передал экземпляр Свиридову, и на то есть «документ» — письмо от 25 декабря 1988 года (дата на штемпеле) — поздравительное с наступающим 1989-м от Георгия Васильевича. Не могу забыть, как я был ошарашен начальными строками письма (которое приведу целиком — не тщеславия ради, а просто чтобы пополнить корпус текстов Свиридова еще одним, никому пока не известным).
«Дорогой Валентин Семёнович, желаю Вам хорошего, счастливого Нового года, плодотворного года! Не считайте меня невежей и наглецом. Целый год я собираюсь Вам написать, поблагодарить за бесценный (это так!) подарок — книгу Вашу о Пушкине. Жизнь моя стала трудной, болею я сам, болеют мои близкие. Читаю Вас с наслаждением: замечательные мысли, свежие, верные, среди множества написанного на эту тему малоценного, постороннего, что попадалось иной раз на глаза. Книга Ваша прямо указует главное в поэте — первопричину его духовного сознания — Христа, соединение Высшей Мудрости с наивностью ребенка. Близка мне и мысль о таинственности мира, которую и не надо пытаться разгадывать, а следует принять целиком. Крепко жму руку Вашу. Г. Свиридов».
О том, что за событие был для меня сам факт — письмо от Свиридова! — уж и не говорю; но — «Не считайте меня невежей и наглецом»! — все лестные и дорогие мне слова словно бы расплылись, как в слёзном тумане, в этой интонации отважного и простодушного самоумаления; словно бы это не он, а я — всенародно признанный, всемирно известный художник, к тому же старше на двадцать лет…