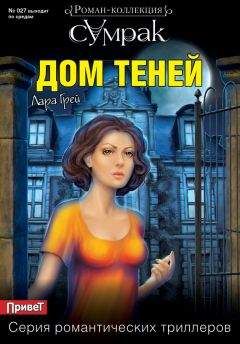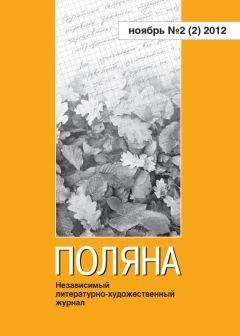Журнал Поляна - Поляна, 2012 № 01 (1), август
«Ну что, забодяжим? — спрашивает доброхот. — Я это к тому, что Витек договорился с буфетчицей насчет кипятка». Эта, сравнительно сложная, фраза была изысканной редкостью в устах чифириста. Но это не беда, у них были другие достоинства.
Через пятнадцать минут в туалете пятеро в серых пижамах сидят на корточках. Деготь в кружке обжигающий. Втянул два-три раза с воздухом, чтобы не обжечься, передай соседу. То, что в тебя попало — даже не полглотка, но его действие уже начинается. Действует не только он сам, но его запретность, круг друзей по несчастью, некое братство. «Гдей-то вы, козлы, забодяжили?» — спрашивает внезапно вошедший человек с кружкой в руке. Он достает из кармана пижамы пакетик сухой заварки, высыпает ее в рот, жует. Потом выпивает подряд две кружки воды из-под крана. «А смысл?» — спрашивает один из пятерых. «Там, — он похлопал себя по волосатому животу, — заварится».
Ночью проще. С дежурной медсестрой всегда можно договориться насчет кипятка. А буфетчицы, о! это корыстное племя! Нет! Это алчное, ненасытное племя. Последний раз заварили в час ночи. Пачка на кружку. Надо два-три раза поднять с кипением и пенкой. Называется «купец». Вот те на! Так это еще не чифирь? Опыт показал, что понимание рецептуры и действия чифиря — индивидуально. Я понял по-своему. Если напиток помогает тебе раскрыть память, сознание, а может, и подсознание, — то это еще не чифирь, это — «купец». Если ты под этим легким кайфом начинаешь юморить, то это «купец», если тебе становится легче общаться и ты перестаешь ревниво считать свои, при этом общении, ошибки, то это «купец». А вот если ты запел или пошел вприсядку, уж извини, брат, это чифирь. Я этого сам не испытал, но как другие пляшут и поют, видел. Видел. И зело дивился…
Лег — сердце колотилось. Как уснуть? Заснул в полпятого. Ровно в пять тронули за плечо:
— Все в ажуре! Мы уже забодяжили.
— Ах, чтоб вас!..
— Ты давай не ругайся, а лучше, это, приходи…
Когда тянули «купца», со всхлипом и присвистом, кто-то сказал:
— Так и погибли аборигены, больше всего на свете возлюбив огненную воду… Вот ведь в чем штука. Для них это был не самоценный напиток, но лишь временный заменитель «огненной воды». Для него, полюбившего не «чифирь» и не «купца» в те лета, когда еще и не знал вкуса алкоголя, — все было иначе. Это, конечно, не значит, что он был сложней и лучше, а они дурней и проще. Но у них, как уже сказано, были иные достоинства. Они, например, эти, с виду самые простецкие мужики, абсолютно все умели делать руками. А, значит, — и головами. Хоть по-слесарному, хоть по-столярному. Часы там починить или компьютер — без разницы…
«Клянусь! — клялся он как-то в одной компании, — ни смородинный лист, ни мята мне и даром не нужны». Дерзко думать, что чай можно усовершенствовать. Это законченное произведение природы. Притом, чай и мята — разнонаправленны. Чай яснит, немного возбуждая. Мята — напротив — успокаивает, сводя действие чая к нулю. Это — как пить водку, растворяя в ней какой-нибудь «опохмелин». Однажды, впервые попав в Среднюю Азию, он с первого глотка влюбился в чай зеленый. Не всякий зеленый, а тот, что подавали в богатых домах. В «хижинах» подавали чай попроще, не такой вкусный и, главное, без того небольшого хмелька, не для всех местных, может быть, и заметного. На Востоке много видов кайфа. И все местные, так или иначе, всегда, постоянно под кайфом. Немного. Или все это ступени одного и того же? Что-то ведь вкладывают в это, когда говорят: «Чай — не водка, много не выпьешь». Да мало ли, что говорят. Он по опыту знал, что есть, есть оно, есть это родство, есть оно, есть! Те люди в серых пижамах, а их не обманешь, неслучайно заменили отнятое одно полузапрещенным другим. Одно — пшеничное и виноградное, другим — с чайного куста. Но одно проходит через сложные процессы брожения, перегонки и очистки, другое, просто попав в кипяток, уже дает готовый продукт. Но важно, что и первое и второе — растительного мира. Все, так или иначе, больше или меньше — расширяют сознание. А оно же инертное, никакое. В лежку лежит, если не подстегнуть. Шиллер для возбуждения творческих сил нюхал гнилые яблоки, у Леонида Андреева самовар всю ночь со стола не сходил, когда писал. А когда не писал — пил водку с городовым, порой заливая ее даже в его, городового, винтовку, в самое, так сказать, дуло царизма.
Что же теперь? Куда плыть? Что и чем заменять?..
В производственном отделе
…Когда я, красивый и двадцатидвухлетний, начинал в производственном отделе Завода счетно-аналитических машин, п/я В-2230, антисоветскую пропаганду, — как это у нас в шутку называлось, — то сидевшая за мной татарочка Валя Галямина всегда говорила:
— Ты-то здесь при чем? У тебя же никто не пострадал.
— А при том. Все вот вашего благополучия родители вполне могли побывать ТАМ. И неизвестно, вернулись бы?.. И неизвестно, успели бы народить вас? Может быть, ты, здоровая и красивая, родилась бы не в 1940-м, а году так в 1956-м. От больного физически и надломленного психически человека. И была бы ты сейчас такая, что на тебе и глаз-то не остановился бы. От самого рождения желтая, морщинистая кожа лица, рук и всего остального, потухшие, без твоих звезд, глаза. И все-таки, пока сидишь, еще куда ни шло, но как встанешь и пойдешь — просто караул! Походка, как у уточки, вперевалку, да еще правую ногу подтягиваешь… И как тогда? А я бы сидел и говорил: «Тебе-то что? У тебя же никто не пострадал». А ты не могла бы мне даже ответить. Потому что вечно в страхе, каждое слово пропускаешь сквозь мелкое ситечко.
Делая акцент на женских прелестях, я предполагал, что действую разумно, что это ее зацепит.
— Заливай другим, — играя глазами, совершенно спокойно сказала она, — ты лучше скажи, как вы, евреи, фаршированную рыбу делаете?
Вряд ли она была безразлична к вариантам своей внешности. Так ведь все, что я говорю, не всерьез. Но можно ли надежно укрыться от всех, прежде нас бывших, страданий? Или рано или поздно они затронут ленивое сердце и высекут в нем искру сострадания? Ну и что в том, что открылось мне ее равнодушие? Разве она стала меньше мне нравиться? Да еще и равнодушие ли то было, а не все тот же уверенный в себе страх? Чуть ослабленный, конечно, временем и выступающий теперь под именем опаски и даже простой осторожности?
Но она верно сказала, что у меня никто не пострадал. Маму, правда, за связь с «троцкистом» могли «затаскать». Но следователь, ее однокорытник по железнодорожному техникуму, земляк и давний поклонник, дело замял. Имел ли он ввиду вдаль идущие варианты «благодарности», или действовал вполне бескорыстно — об этом теперь не у кого спросить. Но мое сыновнее чувство больше склоняется ко второй возможности. Он знал, что мама замужем и, «закрывая дело», сказал ей на прощание:
— Учти, брак разрушать не буду (гуманность людоеда, потому что мог бы все, а проще другого — сжечь и развеять любой брак), не буду, хотя и мог бы… Да, мог бы! Но глаз не спущу! (Ой, мамочка! Лучше что хошь порушь, только глаза-то свои бесстыжие отведи…) Я, Андревна, вот что тебе скажу: я — подожду!
Это же чудо, не правда ли, папочка, не правда ли, мамочка, что попался такой огромный, такой благородный человек! Влюбленная сволочь… Такого не бывает. Думаю, мама недостаточно оценила, в какие малые потери ей вылилась «связь с троцкистом». Случись этому земляку вклиниться между двух мужей мамы, быть может, и я родился бы не совсем как я, потому что — от него. Непостижимая связь — между вторым мужем мамы и ее возможным мужем. Оба шили. Но один шил белыми нитками «дела», другой — вполне приличную одежду. Странный хлеб — хлеб чекиста. То ли дело — мой папа! Он, как всякий ремесленник, умел зарабатывать на хлеб (в том числе и на водку) своими руками и уменьями. От сшитого папой дела еще никто не плакал и выбитыми зубами не плевался, но всякий, одетый по моде, был доволен.
Если бы мама тогда «загремела» по 58-й статье, слал бы ей папа посылки? А если бы папа? А он невоздержан был на язык. Чего стоило и на сколько лет лагерей потянуло бы одно это его, когда быстрыми портновскими движениями иглы он вытаскивал наметку, приговаривая:
— Нитки, сынок, гнилье. Крепки, как советская власть…
Когда и в мороз жарко
Памяти Виктора Ершова
Ребенком, в жару на меня накатывало оцепенение. Видимо, голову напекало. Почему-то у мамы не находилось для меня ничего другого, кроме панамки. А панамку я презирал. Я считал ее в принципе невозможной на моей голове. Я — пацан, а панамки… Пусть их девчонки носят.
Летом день длинный, времени полно. Жаль только, ребят почти никого нет — играть не с кем. Ну и сидишь на солнышке, втыкаешь полусонно в землю какой-нибудь дурацкий ножик. Растопило меня солнцем, развезло почти в лужицу. В этом-то разморенном оцепенении даже двухминутное выпадение из действительности субъективно воспринималось как безначально и бесконечно долгое. Как маленькая вечность. Время прессует нас, но и мы его прессуем.