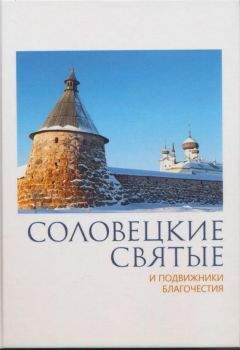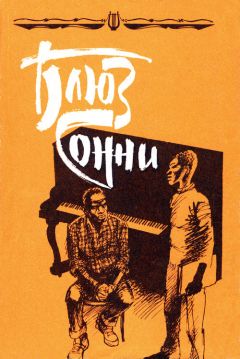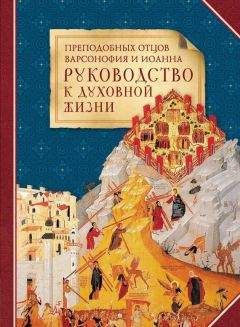Эдуард Мёрике - Блюз Сонни: Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах
— Выходит, не жизнь — самое высокое и прекрасное, — воскликнул я запальчиво, — но смерть! Тогда прошу тебя, о горестный король, спой мне песню о смерти!
Человек у руля запел о смерти, и пел так прекрасно, что мне и сравнить было не с чем. Но и смерть была не самым прекрасным и высоким, и в ней нет утешенья. Смерть стала жизнью, а жизнь — смертью, и они сплетались друг с другом в вечной безумной любовной схватке, и это было последней истиной и смыслом мира, оттуда вырывался луч света, который мог оживить и украсить картину безрадостную, и оттуда же падала тень, набрасывавшаяся на все красивое и веселое и окутывающая все это тьмой. Но в темноте страсти разгорались искреннее и ярче, а любовь накалялась добела в эти темные ночи.
Я слушал его, весь уйдя в себя, и не было во мне другой воли, кроме воли незнакомца. Его взгляд остановился на мне, взгляд кроткий и какой-то грустно-добрый, его серые глаза излучали боль и красоту мира. Он улыбнулся мне, и тогда я, собравшись с силами, сказал ему в отчаянии:
— О, послушай, давай повернем вспять! Мне страшно здесь в ночи, я хочу обратно, туда, где найду Бригитту, или домой, к моему отцу.
Незнакомец поднялся и указал в ночную мглу — фонарь отчетливо освещал его худое и твердое лицо.
— Назад пути нет, — произнес он торжественно и дружелюбно. — Надо всегда идти вперед, если хочешь познать мир. А от девушки с карими глазами ты уже получил самое прекрасное, и чем дальше от нее ты уйдешь, тем более дивным и чудесным оно будет тебе казаться. Но все же поезжай, куда пожелаешь. Я уступаю тебе мое место у руля!
Безумно огорченный, я понимал, что он прав. С тоской думал я о Бригитте, об отчем крове, обо всем, что еще недавно было столь близким и светлым для меня, принадлежало мне — и вот оно мной утеряно. Теперь я должен стать на место незнакомца у руля. Так мне суждено.
Поэтому я молча встал и направился к рулю, а он, не говоря ни слова, пошел мне навстречу, и когда мы поравнялись, твердо взглянул мне в глаза и передал фонарь.
Но когда я стал у руля и поставил фонарь рядом с собой, я оказался один на судне — с тайным ужасом я убедился, что незнакомец исчез. И все же я не испугался, я это предчувствовал. Сейчас мне казалось, что чудесные прогулки, и Бригитта, и мой отец, и родные края — все это было только сном, а я, старый, умудренный горьким опытом, всегда, вечно плыл по этой ночной реке.
Я осознал, что звать незнакомца не смею, и познание истины словно оглушило меня.
Чтобы убедиться в том, о чем я уже догадывался, я перегнулся через борт к воде и поднял фонарь: из черного зеркала на меня смотрело серьезное и суровое лицо с серыми глазами, старое, всеведущее лицо — и это был я.
И поскольку пути назад нет, я продолжил свой путь по темным водам ночной реки.
© Е. П. Факторович, 1991 г., перевод на русский язык.Август Стриндберг
(Швеция)
ТАЙНА ТАБАЧНОГО САРАЯ
Была когда-то в оперном театре молодая певица. Она была так прекрасна, что люди при встрече с ней оборачивались, и пела она, как поют немногие.
И вот однажды пришел к ней композитор-капельмейстер и предложил ей свое королевство и свое сердце. Королевство она приняла, но от сердца отказалась.
И тогда она стала знаменитой — знаменитей всех. И, проезжая в экипаже по улицам, она кивала своим портретам, выставленным в витринах всех книжных лавок.
Она стала еще знаменитее — и лицо ее появилось на почтовых открытках, на обертке мыла и на коробках с сигарами. Наконец, ее портрет повесили в фойе театра среди бессмертных мертвецов; и тогда — она вообразила о себе бог знает что.
Как-то раз стояла она на морской пристани. Течение здесь было сильным, а волны высокими. С ней, разумеется, были капельмейстер и другие молодые люди. В руках у красавицы была роза, и красавица играла ею. Получить эту розу хотели все, но завладеть ею надо было суметь.
И вдруг она кинула розу далеко в волны. Молодые люди проводили цветок глазами, а капельмейстер бросился за цветком в море, поплыл на волне, как чайка, и вскоре поймал цветок губами.
С пристани раздались аплодисменты, и он посмотрел из волн в ее глаза и увидел, что она любит его. Но когда он хотел вернуться на берег, оказалось, что он попал в водоворот и не может сдвинуться с места. Но она на пристани не поняла опасности, подумала, что он играет, и засмеялась. Но он, знавший о смертельной угрозе, нависшей над ним, не понял ее смеха, который, по правде говоря, не был добрым; и он почувствовал от него боль в сердце, и с этой болью кончилась его любовь.
Но все же он вернулся на берег, вернулся с окровавленными, исцарапанными о камни руками.
— Ты получишь мою руку, — сказала красавица.
— Она не нужна мне, — ответил капельмейстер, повернулся к красавице спиной и пошел прочь.
Это было оскорблением величества, и за это он должен был умереть.
Как случилось, что капельмейстер потерял свое место, — это знают только люди театра, а уж они разбираются в такого рода вещах. Крепко сидел он, и потребовалось два года, чтобы он упал.
Но все-таки он упал; и она, избавившись от своего благодетеля, торжествовала победу, и тщеславие ее так выросло, что стало заметно всем. И сквозь грим публика увидела, что сердце у нее злое. И ее пение больше никого не трогало, а ее слезам или улыбке не стали верить.
Она поняла это и ожесточилась. Она еще правила театром — душила всех, кто хотел расти, и бросала их на растерзание газетам.
Благосклонностью публики она перестала пользоваться, но власть была еще у нее; и так как она имела богатство, власть и силу, жилось ей хорошо. А люди, которым живется хорошо, худыми не бывают, скорее они склонны к полноте; и она в самом деле начала понемногу полнеть — так медленно и постепенно, что сама этого не замечала, а когда заметила — было уже поздно. Бах! Путь под гору легок, и она этот путь проделала с головокружительной быстротой. Пытка голодом, которой она себя подвергла, не помогла ей. У нее был самый изысканный стол в городе, а она должна была голодать, и чем больше она голодала, тем больше толстела.
В течение года она ни разу не появилась на сцене, и ей снизили жалованье. Через два года о ней наполовину забыли, а ее партии перешли к тем, кто был моложе ее. На третий год ее уволили, и ей пришлось переселиться в мансарду.
— Она неестественно растолстела, — сказал режиссер суфлеру.
— Не растолстела, а раздулась от тщеславия, — возразил суфлер.
* * *Теперь она сидела в своей мансарде и глядела на лежавшие внизу огороды. Стоял там также сарай для сушки табака, и сарай этот нравился ей тем, что в нем не было окон, из которых кто-то мог бы на нее смотреть. Под стрехами крыши сарая жили воробьи, но табак в сарае никто не сушил и его здесь даже и не сажали.
Так сидела она все лето в своей мансарде и смотрела на этот сарай, гадая, для чего бы он мог служить, — потому что на дверях его был большой висячий замок и не видно было, чтобы кто-нибудь входил в него или из него выходил. Она чувствовала, что сарай скрывает в себе какую-то тайну; какую именно — это она вскоре узнала.
От прежней славы у нее еще оставались две соломинки, за которые она цеплялась и которые помогали ей жить: это были ее коронные партии, Кармен и Аида, которые, за отсутствием преемницы, были еще не заняты; и в памяти публики еще не умерло ее исполнение этих партий, которое было блестящим.
Так — пришел август; снова зажглись фонари и начался новый театральный сезон.
Однажды певица сидела у окна мансарды и смотрела сверху на сарай, который только что покрыли черепицей и покрасили красной краской.
И вот она увидела, что через картофельное поле к сараю идет человек, в руках у которого большой ржавый ключ. Он подошел к сараю, открыл его и вошел внутрь.
Вскоре появились еще два человека, которые показались ей знакомыми; они тоже скрылись в сарае.
Это становилось интересным.
Через минуту они вынесли оттуда втроем нечто весьма странное, напоминавшее ширмы.
Они повернули эти ширмы и прислонили их к стене сарая; и тогда оказалось, что это кафельная печь, только нарисованная, и нарисованная плохо. За ней показалась дверь от какого-то сельского дома, быть может охотничьей хижины. А потом появились лес, окно и библиотека.
Это были театральные декорации. И через минуту она узнала розовый куст из «Фауста».
Это был склад декораций оперного театра, и у этого розового куста она сама пела в прежние дни: «Боже мой, что я вижу! Как вы похорошели!»
Больно стало ее бедному сердцу, когда она поняла, что пойдет «Фауст», но нашлось утешение: ведь она не пела в этой опере главной партии, партии Маргариты.
— Бог с ним, с «Фаустом»! Но если они возьмутся за Аиду или Кармен — я этого не переживу!
Теперь она все время сидела у окна и смотрела, как меняется репертуар; и она знала, что пойдет в Опере, за две недели до объявления в газетах. До чего же это было интересно! Она видела, как вытаскивают «Вольного стрелка» с волчьим логовом и всем прочим; она видела «Летучего Голландца» с морем и кораблем, «Тангейзера», «Лоэнгрина» и многое другое.