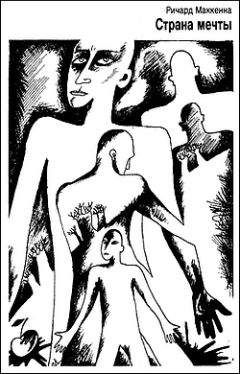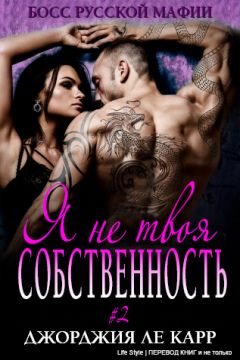Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди
Быть может, никто не характеризовал двойственность вагнеровской натуры столь живо, как эльзасский писатель Эдуард Шюре, познакомившийся с Вагнером в дни премьеры «Тристана» в Мюнхене и навещавший его в Трибшене и Байрейте: «Посмотришь на него — с лица Фауст, в профиль Мефистофель. Вот Протей, чье богатство слепило, — пылкий, своевольный, безмерный во всем, и притом все находилось в нем в удивительном равновесии благодаря всеобъемлющему интеллекту… Он открыто выступал перед всеми, не таил ни достоинств, ни ошибок, одних магически притягивал к себе, других отталкивал».
Одним из самых знаменитых и значительных друзей Вагнера был Фридрих Ницше. Он изведал и то, и другое — и приятие, и отторжение. После фестиваля 1876 года Ницше сделался из Павла Савлом, из пылкого сторонника — непримиримым противником Вагнера. Он проницательно распознал слабости Вагнера, хотя оскорбленное тщеславие тоже сыграло свою роль. В высокоодаренном юном друге Вагнер видел лишь полезного для него пропагандиста. А Ницше претендовал еще на что-то свое, и это было непонятно Вагнеру. Прослушав доклад Ницше «Сократ и греческая трагедия», Вагнер отреагировал на него так: «Вот и покажите теперь, на что способна филология, и помогите мне утвердить эпоху великого возрождения, где бы Платон обнимал Гомера, а Гомер, преисполненный идеями Платона, стал пренаивеличайшим Гомером». Здесь видно, как оценивал себя Вагнер! Однако самолюбие Ницше не уступало вагнеровскому. Ницше представлял молодое поколение с его антиромантизмом: он первым отклонил весь романтический хаос и романтическое упоение чувством — этим и был предопределен разрыв с Вагнером. Позднейшие высказывания Ницше о Вагнере пышут ненавистью, а всего через несколько лет Ницше постигла духовная катастрофа, и, быть может, неумеренная раздраженность его слов отчасти объясняется его состоянием.
Вагнер — дух беспокойный; теоретические рассуждения помогали ему заглушить душевную пустоту в периоды, когда творческие силы ослабевали. Когда же энергия возвращалась, то Вагнер рад был забыть и о размышлениях, и о писанине, и о проповеди своего учения. Когда замысел «Нибелунгов» начал вырисовываться, Вагнер признавался Рёкелю: «Мои сочинения свидетельствовали о том, что как человек искусства я утратил свободу: я писал их как бы по принуждению, вовсе не намереваясь сочинять «книги»… Теперь же все это писательство позади: если бы я продолжал, то непременно погиб бы…» Позднее, во время работы над «Мейстерзингерами», когда после довольно длительной творческой паузы Вагнер почувствовал прилив свежих сил, он все же не удержался и уступил соблазну заняться политикой — хотя в свое время и пострадал от этого. Правда, кризис 1866 года предоставил Вагнеру немало поводов высказывать свое мнение и королю, и политикам, и журналистам. Не удержался Вагнер и от того, чтобы в знак протеста послать баварскому премьер-министру принцу Гогенлоэ конфискованную по требованию короля заключительную главу своего трактата «Немецкое искусство и немецкая политика». После этого Вагнер все же одумался и с тех пор уже не встревал в баварскую политику.
Тем более занимали его поистине колоссальные проблемы, связанные с реализацией идеи Байрейта. На счастье, к этому времени «Гибель богов» была уже готова, хотя бы в черновике. В тот момент, с переездом Вагнера в Байрейт, строительство вступило в решающую фазу и ко всем заботам о финансировании предприятия прибавился еще и сизифов труд в должности директора театра. Вагнер все это испытал на себе. Байрейт был последним и самым значительным трудом Вагнера — человека дела. Кстати, заметим, что благодаря этому предприятию Вагнер, хотя и очень поверхностно, познакомился с другим человеком дела; однажды, в период, когда Вагнер предпринимал самые первые шаги к подготовке фестиваля, его принял в Берлине Бисмарк. То была единственная их встреча. На письмо композитора, приложенное к его сочинению о байрейтском театре, имперский канцлер вообще не ответил. Очевидно, ему пришлась не по душе вагнеровская идея возрождения немецкой нации средствами театра. И Вагнер начал дурно отзываться о Бисмарке.
Деньги, долги, роскошь
Характер Вагнера отмечен многими замечательными чертами, и среди них первая — почти патологическая расточительность. Организм Вагнера был устроен как-то особенно — все, ему свойственное, предстает как бы в превосходной степени. Однако отношение Вагнера к деньгам столь загадочно, что стоит над ним поразмыслить. Вагнер и сам это чувствовал. Он затронул данную тему в письме своему другу — дрезденскому медику Пузинелли — в ту пору, когда он мог бы давно уже жить припеваючи благодаря щедрости короля Людвига. Вагнер рассказывает в своем письме о том, что больше всего мешало ему в жизни. «Самым ужасным, — пишет он, — была нищета. Унаследованное состояние, большое или незначительное, обеспечивает человеку самостоятельность, если тот хочет чего-то дельного и настоящего. Для моих же целей, притом в той сфере, в которой я действую, необходимость добывать себе деньги на пропитание — это просто проклятие. Многие, в том числе и великие люди, испытали это на себе, многие погибли. Я убежден, что, обладай я хотя бы самым скромным капиталом, внешняя сторона моей жизни стабилизировалась бы и любое беспокойство просто не коснулось бы меня. Я же находился в диаметрально противоположном положении и был равнодушен к цене денег, словно знал заранее, что никогда не сумею «заработать» их. От последствий этого я при своем стремлении к идеальному всегда несказанно страдал».
Можно сказать, что все знаменитые предшественники и современники Вагнера разделяли с ним этот недостаток — недостаток наследственного капитала. За исключением двоих: Мендельсона и Мейербера. Очевидно, Вагнер сердился за это на них, точно так же, как был недоволен их славой. Неизвестно, в состоянии ли был бы Вагнер при каких-то условиях жить скромно и без затей. Но нет сомнения в том, что борьба за существование с юных лет предопределила его отношение к вещам, к материальным ценностям. Жажда жизненных впечатлений, интенсивность желаний и потребностей быстро научили Вагнера раздобывать все для него необходимое. Сначала Вагнер прибегал к помощи братьев, сестер, зятьев, друзей. А позднее не было буквально никого, кто приходил бы в соприкосновение с Вагнером и кому не грозили бы его грабительские набеги. Вагнер требовал, просил, молил, бесподобной силой красноречия выманивал деньги из карманов, если только те в них водились. Потребности его возрастали пропорционально росту его значения, самосознания, запросов. У разных людей разные жизненные реакции. Гайдн, Бетховен, Брамс, Верди с детства жили в бедности, и в дальнейшем их потребности были умеренны. А у Вагнера — обратное: бедность до предела обострила его потребность в дорогих, богатых вещах. Так Вагнер реагирует всегда: малейшее давление всякий раз вызывает с его стороны яростное, страстное противодействие. В парижские годы он был лишен самого необходимого, но сделался эпикурейцем на всю жизнь; в изгнании, в годы странствий он не был материально обеспечен, но стал сибаритом; наконец, благополучное существование было окончательно обеспечено и Вагнер мог жить, не испытывая непосредственных материальных затруднений, однако тут чувство зависимости от капризов короля привело к тому, что Вагнеру начало буквально мерещиться, будто лишь царская независимость совместима с его достоинством. И царский образ жизни. Вот Байрейт и стал резиденцией нашего государя. Отныне он ездил лишь в отдельном вагоне-салоне, а когда отдыхал в Италии, то на семь человек, из которых состояла его семья, приходилось восемь человек прислуги.
В том, как обращается Вагнер с деньгами, равно примечательны три момента: его колоссальные, притом все возрастающие потребности, его способы раздобывать средства и поведение по отношению к кредиторам. Чтобы выразиться помягче, Вагнер во всем поступает странно. Что касается потребностей, то тут у него нет тормозов: всем, чего ему хочется, он должен обладать, притом немедленно и невзирая на цену. Что касается раз добывания средств, то Вагнер имеет обыкновение обращаться в ломбард: он получает деньги как под залог ценных вещей (какие только окажутся под рукой), так и главным образом под свои будущие доходы, на какие только может рассчитывать. Расчеты, надо сказать, оправдывались, но, как правило, с большим опозданием. Предметом финансовых операций были и уже написанные произведения, но в те времена только самый крайний оптимист или же авантюрист могли бы рассматривать как твердую гарантию доходы от них. А Вагнер при этом всегда еще пытался свалить весь риск на кредитора. Уже в Магдебурге, на заре своей карьеры, он заложил фундамент своей задолженности. Он уже взял тогда двести талеров у своего состоятельного друга Теодора Апеля и вот что ему написал: «Мне не надо от тебя подарков, но купи у меня права на будущие доходы от моей оперы! Если ты мне доверяешь, то ты как раз и есть тот человек, кто ничем тут не рискует; я оцениваю эти доходы в сто талеров — ты дашь мне столько? Это честная торговля, и я лишь потому обращаюсь к тебе, что не без основания чувствую именно в тебе наибольшую веру в успех. Если еще в этом месяце у меня не будет денег, мне нельзя будет даже и показаться здесь». Предполагавшийся «доход» от оперы — это чистая прибыль от второго спектакля «Запрета любви», который должен был даваться в бенефис Вагнера, но так и не состоялся. Как только Вагнер получал ссуду, любое воспоминание о долговом обязательстве немедленно исчезало из его памяти. Требования по возможности игнорируются им, долги выплачиваются за счет новых ссуд и лишь в самом крайнем случае наличными.