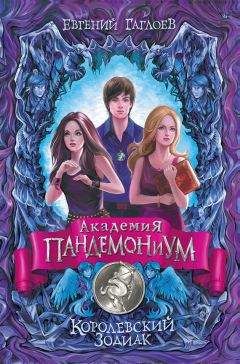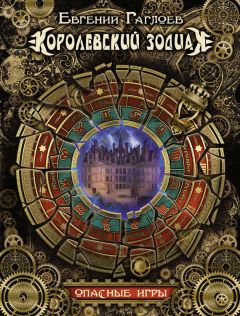Сергей Федякин - Рахманинов
В «Симфонических танцах» этот мотив из «Дня гнева» проходит с редкой настойчивостью. То как выкрики, то как стоны, то как слетающие с высоты звуки, то как громовые аккорды. Но эта многовариантность — ещё не всё. Мотив «Dies irae» пронизывает звуковую ткань «Танцев», словно «растворяясь» в отдельных интонациях и их «атомах»[297]. Как часто в зна́менном напеве, пришедшем из «Всенощной», видели противостояние разгулу «бесовских сил». Но стоит вглядеться в ноты, чтобы увидеть глубинное родство этой темы — теме, рождённой из «Dies irae», — разнузданной, — со свистом и кривляньем. «Соль — фа-диез — соль — ми — фа-диез — ре — ми…» — начало темы, пришедшей из «Dies irae». «Соль — фа-диез — соль — фа-диез — соль — ми — фа-диез — соль — ля — соль…» — начало темы, пришедшей из «всенощного», «строгого» песнопения. Совпадение в пяти нотах («соль — фа-диез — соль — ми — фа-диез») — чем не родство, чуть ли не «единокровность»? Почти «кусочек» звуковой хромосомы, общей и для «Дня гнева», и для «Свят! Свят! Свят!». А залихватский, «плясовой» темп делают сходство ещё более разительным.
И всё же знаменный роспев, который ляжет в основу внутренней драматургии 9-го номера «Всенощной» («Благослови, еси, Господи!») — в «Симфонических танцах» вобрал начало трагическое.
Первые два проведения, которые идут следом за двойным же явлением насмешливо-злой, с издевательским «присвистом» «Dies irae»… Знаменный напев торопится не отстать, звучит «запыхавшись». Следование этих тем друг за другом — как перекличка различных реплик: «День гнева — тот день расточит вселенную во прах…» «День гнева — тот день расточит вселенную во прах…» — И в ответ, едва переводя дух: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу»… «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…»[298]
Какие содрогания души должны были уловить слушатели: святое — в лице древнего зна́менного пения — попрано, не может «противостоять», может лишь, страдая «одышкой», попытаться настигнуть ускользающую действительность? «День гнева» звучал упрямее, непреклоннее, зна́менное песнопение отвечало лишь первыми своими фразами. Но вот прошёл второй, «одухотворённый» раздел. И за этой, «человеческой», а не «бесовской» музыкой, после вздохов, печали и надежд — новая вакханалия. Но после срывающихся с небес громовых аккордов: «День гнева — тот день!..», после слетающих вниз осколков «Гнева» — новое проведение «всенощной» темы. Теперь она идёт медленнее, увереннее, твёрже. И не «обломками» песнопения, но — цельно, полно.
«День гнева — тот день!.. День гнева — тот день!..» — выкрикивает тема смерти. В ответ — непреклонно и бессомнительно:
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу, Савятей Троице во едином существе, с серафимы зовущее: „Свят! Свят! Свят!“ ecu, Господи. И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Жизнодавца рождши греха, Дево, Адама избавила ecu. Радость же Еве в печали место подала ecu; Падшия же от жизни к сей направи, Из Тебе воплотивыйся Бог и человек.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе Боже!
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе Боже!»[299]
Зна́менный напев уже не топчется, но обретает самостояние. И проходит в той самой «исконной тональности»[300], в какой он предстал во «Всенощной».
И всё же это самостояние напева — не последние звуки «Симфонических танцев». Уже прозвучала в оркестре вся тема, вплоть до: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе Боже!» И — вылетают откуда-то издалека, в том же тревожном ритме, жёсткие аккорды. И падают рядом: один, другой… Ещё один. Ещё… Наступает тишина…
Когда Скрябин ушёл от традиционной гармонии, завершая свои произведения не привычной тоникой, а «прометеевским аккором», или особыми созвучиями, или «таянием звуков», критики-скептики будут едко улыбаться: у него музыка не заканчивается, но обрывается. Рахманинов в век нескончаемых музыкальных экспериментов всегда отталкивался от привычной тонической системы. И тем не менее о «Симфонических танцах» хочется повторить то же самое: они словно бы обрываются… И не аккордом, но ошеломительно звучащей тишиной. Той «немотою» мира, которая наступает «после всего».
Менее чем через год после завершения «Симфонических танцев» начнётся Великая Отечественная война. Не предчувствие ли удара, который примет Россия, звучит в этой «звуковой пустоте», которой завершаются «Танцы»? Или, быть может, катастрофическая «тишина» — то время, которое явится с «распадом атома», после его жизни?
Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы.
Припадок атомической истерики
Всё распылит в сиянье синевы.
Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок…
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.
Георгий Иванов в послевоенных стихах явил одно из возможных воплощений «последней немоты», завершившей «Симфонические танцы».
Эпоха «атома», взрывов, содроганий земных… Но «вечная пауза» в конце произведения — быть может, и о том будущем, которое начертано в Откровении Иоанна Богослова:
«…И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?»
В третьей части много мажора. И вместе с тем — необоримое ощущение катастрофы. И вовсе не потому, что мажор слишком часто сцепливается с ведовскими ужимками и «приплясыванием». Но самый «тональный план» этой части — когда словно бы нет «твёрдой» опорной ступени, когда мажор и минор перебивают друг друга, непрерывные модуляции дают впечатление, что тональность всё время «плывёт», «сбивается», — рождает чувство неустойчивости. «Ломается» ритм, «ломаются» тональности. Всё обваливается, рушится, иногда, напротив, — подскакивает, но опять срывается вниз. Не на что опереться. Нет твёрдой «почвы под ногами». Мир подошёл к последней черте, и жизнь вернулась к истокам — к неминуемой границе между «временем» и «вневременностью».
Какими глазами смотрит Рахманинов на этот порог? Как слышит этот извечный и для каждого — всегда новый «переход»? И почему в душе его — воодушевление и надежда?
…Когда Иван Алексеевич Бунин в тяжёлом 1944-м закончит рассказ, который посчитал лучшей своей прозой, то «выдохнет» на обрывке бумаги: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать „Чистый понедельник“»[301].
Рахманинов знает: он не только написал о «последнем» и главном в этой жизни, но скоро и сам шагнёт за «порог». Да, он ещё успеет переделать Четвёртый концерт, ещё переложит для фортепиано «Колыбельную» Чайковского. Но в сущности, «Симфонические танцы» — прощальное его произведение. Закончив партитуру, он не просто ставит завершающий знак. Но пишет со вздохом облегчения: «29 октября 1940. New York. Благодарю тебя, Господи!»
2. «Я слышу музыку…»
Журналист запечатлел композитора в момент краткой передышки: инструментовка ещё не вполне была завершена. Рахманинов в клубах дыма — он курит по половинке сигареты, вставляя её в мундштук, — сам «худой и неподвижный», руки сложил. Взгляд гостя поневоле упал на пальцы — «непостижимо длинные и непостижимо костистые». Композитор произносит: — Сначала я думал назвать моё новое сочинение просто «Танцы», но побоялся, не подумала бы публика, что я написал танцевальную музыку для джаз-оркестра. Она решила бы, что Рахманинов не совсем в своём уме.
Между окончанием работы над партитурой и первым исполнением — чуть более трёх месяцев. Произведение невероятной сложности. К Орманди в Филадельфию, чтобы тот успел подготовить премьеру, летит фотокопия партитуры. Репетиции начнутся в декабре. А пока, с середины октября, Рахманинов концертирует. Начал с Детройта, продолжив колесить далее: Колумбус, Чикаго, Трентон, Балтимор, Вашингтон, Стамфорд, Нью-Йорк… Перед премьерой в Филадельфии он посещает репетиции оркестра, что-то желает изменить. Партитура испещрена карандашными пометками дирижёра. Кроме них — подчистки бритвой, наклейки. Это композитор вносит свою правку, то в одном, то в другом эпизоде меняя инструментовку. В финале — значительные куски переписаны заново. На старые листы партитуры наложены новые. Убраны последние отголоски некогда начатого балета «Скифы». Теперь это — окончательно — полное драматизма симфоническое произведение[302]. Оно прозвучит впервые 3 января 1941 года.