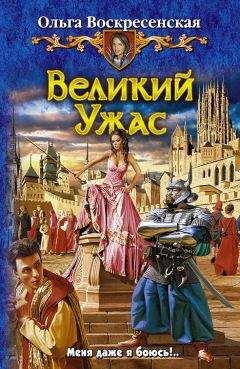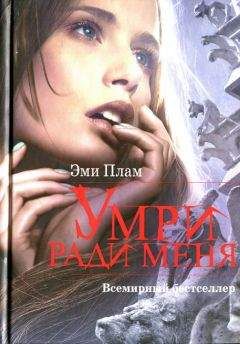Нателла Лордкипанидзе - Актер на репетиции
Тащит и буквально: он срывается с места, отшвыривает тех, кто на пути, и кричит свои странные, неясные и пронзительные слова: «Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский…
Я зарапортовался! Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии! Матушка!»
Тут есть одна удивительная загадка. Не та, о которой обычно спорят — всерьез ли Войницкий считает, что он талантлив, что из него мог бы выйти Достоевский, но другая. На первую ответил Чехов, и ответил весьма определенно: не в Достоевском дело, не в том — гений Иван Петрович или нет. Жизнь Войницкого загублена — вот что главное, вот о чем печаль. А тайна тут в другом — в этом двойном крике: «Матушка, я в отчаянии! Матушка!» После враждебности к ней, после откровенного раздражения, явной отчужденности — почему именно эти слова, что тут должно случиться, чтобы вызвать такую страстную, такую детскую мольбу о помощи?
Реакция окружающих, а если более конкретно — смех Серебрякова. «Шопенгауэр» — только это он из всего сказанного услышал, и это разозлило его чрезвычайно. Подумайте, какие претензии — и у кого! «Ничтожество!» — вот что он скажет дяде Ване и что еще раз подтвердит обидным, нарочитым смехом. Вот тут-то в первый раз и мелькнет мысль о самоубийстве. «Матушка, я в отчаянии», — прозвучит у актера, как: «Матушка, что мне делать? Неужели я схожу с ума?» Неожиданно для себя и для партнеров Смоктуновский опускается на колени. «Ты зачем это сделал, почему? Мне не ясно», — говорит режиссер. «И мне не ясно, — отвечает актер. — Просто захотелось». «Настоящее приспособление родится от верного актерского самочувствия в образе действующего лица, от желания действовать, во что бы то ни стало выполнить задачу роли в предлагаемых обстоятельствах» (из беседы К. С. Станиславского).
А у профессора тем временем схватывает сердце. Проговорил свое, отсмеялся, захотел встать — и не смог. Зачем понадобился этот приступ, что он дает актерам, чем им и режиссеру помогает? Он «работает» на ту же перемену эмоционального состояния — на выстрел. Серебрякову плохо, все около него, все суетятся с водой, лекарствами, а дядя Ваня стоит на коленях, и никому до него нет дела. На одной из репетиций няня Марина случайно его толкнула, и эта случайность завершила то, что уже было подготовлено раньше. Дядя Ваня вдруг увидел себя со стороны, увидел ясно, холодно, трезво. Увидел — и ужаснулся. «Ты не юродствуешь, тебе стыдно, что все так произошло», — к этому отрезвлению первая часть эпизода неумолимо идет, и слова Войницкого: «Будешь ты меня помнить!» — являются его логическим завершением.
Смоктуновский просит: «Когда я пойду к себе в комнату, пусть никто на меня не смотрит. Я попрощаюсь со всеми взглядом, а то мелодраматически получается».
Помните, мы говорили о любопытстве, с которым Смоктуновский приходит на съемочную площадку. Все всё о пьесе знают, и он все знает о дяде Ване, а между тем — любопытствует. Поначалу это казалось свойством натуры: детскость, некоторая наивность, некоторая игра в то и другое; мы привыкли связывать с подобными чертами представления о художниках. Постепенно, однако, от экскурсов в характер пришлось отказаться — чем дальше, тем больше обнаруживалось иное, о чем сам актер сказал весьма недвусмысленно: «Роль с начала и до конца не представляю». Как хотите тут понимайте — можете так, что чеховские персонажи кажутся ему трудноуловимыми и поэтому твердой партитуры у него нет, а можете так: зная судьбу дяди Вани, Смоктуновский тем не менее способен забыть об этой судьбе и каждый раз творить ее наново. Наново встречаться с людьми, наново оценить предлагаемые обстоятельства, наново действовать. И опять хочется процитировать Станиславского: «Когда пьеса срепетирована и актеры играют подряд все акты, они обязаны не знать, что будет происходить на сцене не только во втором или четвертом акте, но и в первом, с той минуты, как открылся занавес».
Съемочный день для меня начинается с неожиданностей. Всех застаю в гостиной, но гостиную застаю в разгроме: разбита красивая лампа, стоящая на рояле, опрокинут стол, стул, валяются вещи. Смоктуновский на полу, на коленях. Лицо обросшее, добродушное, жует резинку и к чему-то примеривается. А Зельдин смотрит на себя пристально в зеркало и несколько нервными движениями поправляет галстук. Дверь в комнату дяди Вани отворена.
Мы расстались в прошлый раз на том, что Войницкий ушел к себе в кабинет с твердым желанием умереть. «Убивал, конечно, себя», — это для Смоктуновского несомненно. Теперь же репетируют момент после выстрела, но, как вы знаете, стреляли в Серебрякова.
Кончаловский хочет, чтобы профессор вел себя достойно: «Ищите логику поведения, помните, что выстрел был внезапным и испугаться Серебряков просто-напросто не успел. Он ошеломлен, но это другое. И вообще — чтобы было легче, вообразите себя Долоховым, в которого всю жизнь стреляют…» Мысль найти в себе Долохова Зельдина привлекает, и он сейчас же свой выход пробует. Идет не то чтобы совсем спокойно, убыстряет и убыстряет шаг, но не бежит, не прячется и, заметив по пути зеркало, машинально в него глядится и даже поправляет галстук. «Никто меня не боится, — замечает Смоктуновский, — а жаль».
И тут позволим себе маленькое отступление. В режиссерском варианте сценария поведение Серебрякова после выстрела записано буквально так:
«Серебряков (вбегает, пошатываясь от испуга). Удержите его! Удержите! Он сошел с ума!»
Как видите, не только ни о каком «самочувствии Долохова» не может быть и речи, но перед нами смертельно перетрусивший, взывающий к женщинам человек. Чем объяснить такого рода перемену? Все тем же желанием Кончаловского не видеть в дяде Ване героя и спустить его с облаков, если не пряным, то косвенным образом? «Меня никто не боится» — шутливая и случайная реплика Смоктуновского таит в себе тем не менее правду.
Его действительно никто не боится, но разве должны бояться? Разве выиграет дядя Ваня в наших глазах оттого, что будет хладнокровно целиться в убегающего и убьет его на глазах жены и дочери? Подобного рода мысль показалась бы кощунственной любому, притом что с перетрусившим профессором любой готов легко примириться. Кончаловский явно не хочет первого, хотя в ходе работы столь же явно отказывается и от второго. Он не ставит их лицом к лицу — Серебрякова и Войницкого, не предлагает нам сделать выбор. Ему важно другое, и для этого другого вовсе не обязательно, чтобы профессор был воплощением всех отрицательных черт, а дядя Ваня — положительных. Режиссер исследует процесс, в неумолимый ход которого втянуты и Войницкий и Серебряков, которому даже Астров не в состоянии до конца противостоять. Каждый из них с разной силой и по-разному, мучаясь этим или вовсе того не замечая, но отторгается от существа жизни. Что с ними происходит в результате — об этом он ставит фильм, пристально и безжалостно вглядываясь в его героев.
Однако вернемся к «Скандалу». К борьбе дяди Вани с Еленой Андреевной, которая пытается отнять у него револьвер, к нему самому, который в ослеплении не замечает Серебрякова, а когда заметит — смешно и неумело стреляет в него, поминая черта и сказав, в конце концов, детское «бац». Да, надо ли вспоминать, что эпизод снимают по кусочкам, и в тот день, когда я застаю хаос в гостиной, начали сразу с выстрела. У Чехова впрямую не сказано, почему Войницкий не стал стрелять в себя. Фильм тоже не расшифровывает этого впрямую, но без того все ясно. Не успевает Войницкий закрыть дверь своей комнаты, как туда же идет Мария Васильевна, а вслед за ней, — после слов Сони — Елена Андреевна и Серебряков. Те, кого он не мог, не хотел видеть, они снова его теснят, снова загоняют в угол, и, чтобы от них избавиться, он поднимает пистолет.
Смоктуновский не просит начать чуть раньше, чтобы внутренне подготовиться, «нажить» верное самочувствие, физическое в том числе. Он только говорит: «Как вас тут много!» — и уходит к себе в кабинет, и оттуда сразу же слышится шум, топот, голоса. Оттого что гостиная просматривается объективом, съемочная группа сгрудилась за аппаратом, а кое-кто даже поднялся на площадку: там воображаемый кабинет Серебрякова. Комната дяди Вани открылась как на ладони, и было видно, как актер готовит себя к выходу. Как он жестикулирует, как бегает, как что-то говорит себе и сам себе отвечает. Однако второй раз никто из нас на площадку уже не поднялся: намеренно подглядывать (а как иначе это назовешь?) было неловко.
«Актерская работа — темное дело. Никогда не знаешь, что может тебя верно направить, в какую минуту это произойдет. Об одной роли говоришь, думаешь, читаешь, фантазируешь, но все равно не можешь ее представить. И вдруг что-то одно решает. Так было с Мышкиным. Полгода работал, и ничего не получалось. А однажды увидел, какой Мышкин: на киностудии стоял человек и в суете читал книгу. Я все понял» (из разговора со Смоктуновским).