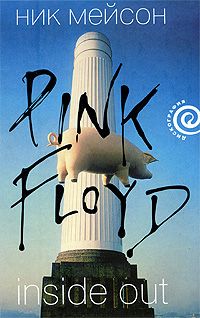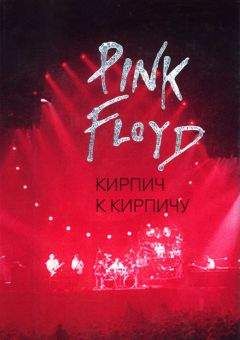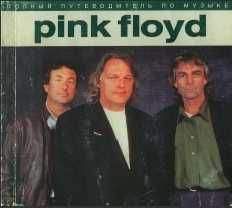Жак Казот - INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков
Эписодий
Hanc ego de coelo ducentem sidera vidi:
Fluminis hoec rapidi carmine vertit iter.
Hoec cantu fmditque solum, manesque sepulchris
Elicit, et tepido devorat ossa rogo.
Quum libet, hoec tristi depellit nubila coelo;
Quum libet, convocat orbe nives.[21]
Тибулл{63}Всю ночь — попомни это — будут духи
Тебя колоть и судорогой корчить.
От их щипков ты станешь ноздреватым,
Как сот пчелиный, и щипки их будут
Еще больнее, чем укусы пчел.
— Кому из вас, о девы, не ведомы милые женские прихоти? — произнес Полемон с радостью. — Вы, без сомнения, любили и знаете, как трогают порой сердце задумчивой вдовы, в уединении предающейся воспоминаниям на тенистых берегах Пенея, загорелые черты солдата, в чьих глазах горит воинственное пламя, а на груди ярко сверкает благородный шрам. Гордый и нежный, проходит он мимо красавиц, подобно прирученному льву, который, стремясь забыть о родных пустынях, охотно предается радостям, какими богата счастливая и легкая кабала. Когда труба не зовет его на бой, а превратности сражения не возбуждают его честолюбивого нетерпения, он посвящает себя покорению женских сердец. С улыбкой ловит он взоры юных дев, словно говоря: «Любите меня».
Вы знаете также, ибо вы родом из Фессалии, что ни одной женщине не дано сравниться красотою с благородной Мероей, которая все время своего вдовства носит длинные белые одежды, затканные золотом; с Мероей, самой прекрасной из прекраснейших жительниц Фессалии. Она величава, как богиня, и тем не менее в глазах ее сверкает некий смертный огонь, ободряющий искателей любви. О! сколько раз погружался я в волну струящегося за нею воздуха, в пыль, поднятую ее ногами, в благословенную тень, следующую за ней по пятам!.. Сколько раз бросался ей наперерез, дабы похитить отблеск ее взгляда, вздох, сорвавшийся с ее губ, частицу ветра, ласкающего, нежащего ее движения; сколько раз (простишь ли ты меня, Телаира?) жгучее сладострастие переполняло меня в тот миг, когда одна из складок ее одеяния касалась моей туники или когда я прижимал к жадным губам одну из золотых блесток, слетевших с ее подола на землю в садах Лариссы! При ее появлении, поверь мне, облака багровели, как перед грозой, в ушах у меня шумело, в глазах темнело, а сердце, казалось, готово было разорваться от нестерпимого блаженства. Она была рядом! я приветствовал тени, проплывавшие над ее головой, вдыхал овевавший ее воздух, спрашивал у всех прибрежных деревьев: «Видели ли вы Мерою?» Если она опускалась на цветочную клумбу, с какой ревнивой страстью припадал я к цветам, примятым ее телом, к лепесткам, увенчивающим склоненную головку анемона, в которой белый цвет напитан алым, к ослепительным стрелам, которые посылает во все стороны золотой диск ромашки, к целомудренному газовому покрывалу, окутывающему юную лилию до тех пор, пока она не улыбнется солнечным лучам; если же я дерзал сжать в святотатственном объятии все это цветущее ложе, она испепеляла меня пламенем еще более летучим, чем то, из которого смерть ткет ночные одежды для больного, томимого лихорадкой. Мероя не могла меня не заметить. Я был повсюду. Однажды, перед тем как над землей сгустились сумерки, я поймал ее взгляд; в нем светилась улыбка; она шла впереди меня и замедлила шаг. Кроме меня, позади нее никого не было, и вдруг она обернулась. Воздух был тих, ветер не раздувал ее кудрей, но она подняла руку, словно хотела их пригладить. Я шел за нею следом, Луций, до самого дворца, до храма царевны фессалийской, и ночь укрыла нас, ночь услад и ужаса!.. О, если бы могла она стать последней в моей жизни и кончиться раньше!
Не знаю, случалось ли тебе с нежностью, разом и смиренной, и нетерпеливой, ощущать на своей руке тяжесть тела уснувшей любовницы, которая забылась сном, не подозревая, что причиняет тебе боль; случалось ли тебе противиться ознобу, постепенно проникающему в твою кровь, оцепенению, сковывающему твои покорные мускулы, случалось ли тебе вступать в единоборство со смертью, покушающейся на твою душу![22] Сходная дрожь, Луций, дрожь болезненная, сотрясала мои нервы внезапными толчками — так острый кончик плектра под рукой неумелого музыканта исторгает неверный звук из всех струн лиры. Плоть моя томилась, точно сухой лист, поднесенный к огню. Грудь вздымалась так высоко, что казалось, она вот-вот лопнет и разорвет сковывающие ее железные оковы, когда, внезапно сев подле меня, Мероя пристально взглянула мне в глаза, опустила руку, тяжелую и холодную, мне на сердце, дабы увериться, что биение его замедлилось, и долго не отнимала ее, а затем стремительно, словно стрела, пущенная из арбалета, бежала от меня прочь. Она мчалась по мраморному полу дворца, распевая песни старых сиракузских крестьянок, какими те заговаривают луну, сверкающую среди жемчужно-серебристых облаков, она кружилась в глубине бескрайней залы и время от времени в припадке устрашающей веселости звала неведомых друзей, чьих имен я никогда от нее не слыхал.
Исполненный ужаса, смотрел я, как спускаются по стенам, толпятся под колоннами, качаются под сводами потолка бесчисленные полчища туманных призраков, отличных друг от друга, но напоминающих живые существа лишь внешними очертаниями, вслушивался в голоса, слабые, точно шум покойнейшего из прудов в безветренную ночь, вглядывался в их неясные цвета, заимствованные у тех предметов, перед которыми проплывали их прозрачные фигуры… но внезапно лазурное, искристое пламя взметнулось из всех треножников, а грозная Мероя, перелетая от одного огня к другому, завела негромко темную речь:{65}
«Сюда цветы вербены… туда три стебелька шалфея, сорванные в полночь на кладбище, где похоронены те, кто умер от меча… сюда покрывало любовницы, под коим любовник ее, задушивший уснувшего супруга, дабы в спокойствии вкусить сладость любви, скрыл бледность и отчаяние… и сюда же слезы голодной тигрицы, растерзавшей собственного детеныша!»
Искаженные черты ее обличали столько муки и ужаса, что едва не внушили мне жалость. Непредвиденное препятствие оборвало ее заклинания; дрожа от ярости, метнулась она в сторону и тотчас вернулась, вооруженная двумя длинными палочками из слоновой кости, связанными на конце шнурком, сплетенным из тринадцати волосков, которые вырвал из шеи великолепной белой кобылицы вор, убивший своего хозяина, и на этой гибкой оплетке взметнула вверх эбеновый rhombus,{66} чьи звонкие полые шары зашумели и завизжали в воздухе, затем, кружась, с глухим ворчанием возвратились к ней, закружились и загудели вновь, а затем, постепенно замедляя вращение, пали на землю. Языки пламени рвались вверх из треножников, подобно змеиным языкам, и тени были довольны. «Сюда, сюда, — кричала Мероя, — да умиротворятся ночные демоны, да возрадуются мертвецы. Несите мне цветы вербены, шалфея, сорванного в полночь, и клевера о четырех лепестках; подарите прелестными букетами колдунью и ночных демонов». Затем, обратив потрясенный взор на золотого аспида, обвившего ее обнаженную руку, на драгоценный браслет, сработанный искуснейшим из фессалийских мастеров, который не пожалел на него ни металлов, ни труда, — белизну серебряных инкрустаций оттеняли в нем сверкание рубинов и нежная прозрачность сапфира, голубизной превосходящего небо, — она снимает его с руки, размышляет, погружается в грезы, обращает к змее сокровенные речи — и ожившая змея, распрямившись, ускользает с веселым свистом, подобно обретшему свободу рабу. A rhombus вертится вновь, он вертится, грохоча, словно далекий гром, который горюет где-то среди туч, гонимых ветром, и, стеная, постепенно затихает вместе с окончанием грозы. Меж тем все своды раскрываются, небеса разверзаются, светила спускаются на землю, тучи сгущаются на пороге, словно на паперти, погруженной во тьму. Окровавленная луна напоминает железный щит, на котором только что принесли домой тело юного спартанца, зарезанного врагом. Она катится на меня, и бледный диск ее, еле различимый за дымом, струящимся из погасших треножников, давит на меня тяжким грузом. Мероя бегает по залам, она касается рукою бесчисленных колонн дворца, и каждая колонна, вспыхнув ярким светом, разверзается от прикосновения ее руки, обнажая бесконечную колоннаду, населенную призраками, и каждый призрак, подобно ей, касается рукою колонны, за которой открываются новые колоннады, и нет колонны, подле которой не приносили бы в жертву грудного младенца, вырванного из объятий матери. «О сжальтесь! сжальтесь! — восклицал я. — Сжальтесь над несчастной матерью, не согласной отдавать свое дитя в руки смерти». Но эта сдавленная мольба слетала с моих губ так же неслышно, как прощальные слова человека, отходящего в вечность; неясные звуки угасали на моих лепечущих устах. Они угасали подобно крику утопающего, который тщетно пытается поведать немым водам свой последний отчаянный зов. Бездушная вода заглушает его голос; хмурые и холодные волны смыкаются над его головой, пожирают его мольбу; никогда не донесут они ее до берега.