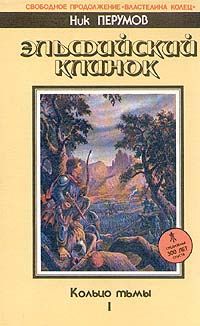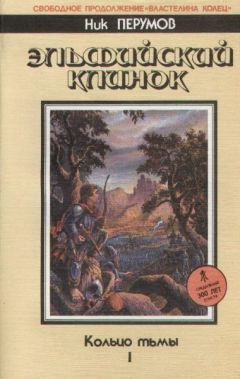Дмитрий Щербинин - Буря
А Сильнэм пришел в большую ярость — одной лапой продолжая стискивать шею Робина, другую протянул, и ухватил Сикуса — и его стал душить. Он рычал:
— Узнал я тебя, мерзкая ты душонка! Как же, как же — часто ты из этой избенки мимо меня пробегал! И все стишки какие-то шептал!.. Так я и знал, что мы здесь встретимся!.. Не зря, не зря Сильнэм старался — вот уж воистину добрая встреча! Тут только еще нескольких не хватает…
В это время, Робин его заметил, и ему, счастливому — хоть и дышать нечем было, и горло, словно раскаленный обруч сжимам — ему стало до боли в сердце жалко этого страдальца. Да — он видел насколько Сильнэм одинокий, потерянный, не ведающий, что такое есть истинная любовь. И вот этот юноша, в глазах которого темнело, который умирал от удушья, склонился к плачущему, все борющемуся с кашлем Сикусу, и прошептал ему:
— Ты только посмотри, какой это несчастный! Он же не знает ЕЕ…
— О чем?!.. О чем это ты говоришь?! — прорычал Сильнэм; однако — сам чувствовал боль, где-то в сердце, и несколько ослабил свою хватку, так как вспомнилась ему та прекрасная дева, которую любил он когда-то — память о который хранил все эти годы.
— Нет — ты только посмотри, какой несчастный! — с искренним сочувствием выдохнул Робин, и даже заплакал от жалости к Сильнэму. — Мы можем рассказать ему…
Кашель Сикуса наконец прошел, но он ничего не мог ответить — слишком был слаб, и страшно было смотреть на этот маленький, торчащий острыми углами, грязевой сгусток. Казалось, что он умер, и тогда Сильнэму страшно стало, что — он его задушил; вообще — убийство казавшееся ему еще недавно чем-то должным, было теперь отвратительно всей его сущности, и он поспешил выпустить Сикуса — шею Робина он тоже выпустил, но тут же схватил его за руку, спрашивал:
— Кто же она?! Рассказывайте мне скорее?!.. Что у вас за чувства?!.. — он очень разволновался, и теперь очень боялся, что вот они умрут, и останется он один — он уже ждал этого рассказа, как какого-то чуда.
Какая же это была прекрасная просьба и для Робина, и для Сикуса! С каким же восторженным упоением готовы они теперь были рассказывать!.. Они стали говорить перебивая друг друга… Я не стану приводить здесь их речь, так как была она и не связна, и повторялась — была даже и не логична, в некоторых местах следовали одни только восторженные междометия. Однако, я думаю, что, если бы читатель перенесся из своего уютного жилья в тот жуткий грохот, в леденящий ветер, в полчища режущих снежинок, и, если бы поток, наполненный перемолотыми телами грязи едва не сбивал бы его с ног — если бы он перенесся в такое жуткое место, но оказался бы рядом с ним, то он испытал бы, все-таки, величайшее счастье. Слушая их бессвязную речь, смотря на эти выступающие из грязи восторженные очи — он забыл бы об окружающим ненастье — ему показалось бы, что вокруг них ласковая аура нездешнего света — он, предчувствуя любовь небесную, погрузился бы в этот свет, восторженно улавливая каждое слово. Сильнэм уже позабыл о своей мести — он, знавший Веронику, вспоминал не ее, но ту свою давнюю любовь, и казалось ему, что — это про нее они все говорят — он даже позабыл, что — это сторонние существа, ему казалось, что — это долгожданная благодать снизошла на его душу — и это какие части его сознания говорят…
В это самое время Аргония продолжала драть Альфонсо, а он из всех сил бил эту «ведьму» в лицо — в это время хаотичное месиво тел достигло наивысшего предела; и вот почувствовал Сильнэм, что на голове его уселся ворон — когти сразу же пронзили его уши, и он не мог больше слышать голоса Робина и Сикуса — они не остановились — насквозь прошли через его голову. Вкрадчивый голос размеренно нашептывал:
— …Что же ты жалеешь этих трусов? Они разве жалели тебя когда-нибудь? Сейчас они распинаются так, только потому, что чувствуют твое физическое превосходство; хотят, стало быть, прощение для себя выхлопотать. А, если бы ты был слаб — раздавили тебя, и даже не заметили. Вспомни, сколько ты мук натерпелся из-за них, из-за таких как они — что ты видел, кроме презрения?!.. Они есть твои кошмары, избавься от них — стань свободен!..
— Но я же один тогда останусь… — слабым голосом прошептал Сильнэм.
— Нет, у тебе же есть дорогое воспоминанье — они говорят о Ней, но какое право они имеют? Она принадлежит только тебе! Убей же их, и перенесись к тому озеру под звездами!..
От страшной боли Сильнэм закричал бы, да не мог он уже кричать — в горле словно ледяной ком застрял. Еще раз вспыхнуло что-то светлое, попытался он противится, но тут — словно черная волна, захлестнула все его так долго копившаяся злоба — и жалостливое отношение к этим двоим тоже в мгновенье переменилось. Теперь он считал их колдунами — считал, что это они причина его боли, и вот, чтобы вырваться к счастью, с еще большей яростью нежели прежде набросился на них. Двумя лапами он вцепился в шею Робина, который и отдышаться то еще не успел, в Сикуса же он вцепился клыками — загреб в свою пасть значительную часть его щеки, и, если бы это была плоть обычного человека, то щека в тоже мгновенье была бы отгрызена. Однако — так как плоть его за это время загрубела, сделалась почти каменной, то он только продавил ее — впрочем — продолжал сжимать свои клыки — вгрызался все глубже.
Казалось бы, в таком противоестественном состоянии у любого живого организма срабатывает один защитный рефлекс, и он ни о чем, кроме как о собственном спасении уже не может думать. Однако, эти двое уже перестали жить жизнью плотской, и только по необходимости вынуждены были пока напрягать голосовые связки и мускулы этой внешней оболочки. Со своей мечтою, со своей звездой по имени Вероника, они были выше физической боли — и потому даже не пытались высвободиться от Сильнэма, а, тем более, причинить ему какой-либо вред. Единственное, что Робину теперь было очень тяжело говорить, и ему требовалось приложить титанические усилия, чтобы донести свою мысль до Сикуса:
— Он… несчастный… больно ему… Один он… Мы должны… донести его до Нее…
Сикус еще и не дослушал, но все уже понял, и, конечно же — сделал первый рывок в ту сторону, где, он сердцем чувствовал! — была Она. И маленькому человечку, конечно, было бы не справиться, ведь он и один то не мог прорваться, а тут еще и Сильнэма приходилось за собой тащить. Таким образом, получилось, что Робин, шея которого была разодрана в кровь, который и вздохнуть не мог, потащил их двоих — при этом голова его часто погружалась под грязь. В орочьих рудниках несколько дней ему приводилось возить телеги с рудой. Каждая весила очень много, и надо было бегом везти ее под большим уклоном вверх — чуть замешкался и удар кнута — порой раздирающий плоть до кости — такое продолжалось в течении многих часов в изнуряющем, стремительном ритме — и только благодаря могучему своему здоровью Робин выдержал — эти смертоносные тренировки и помогли ему теперь. Он выгибался всем телом, затем — стремительно распрямлялся, и могучим толчком продвигал их совсем немного вперед. Если бы там прояснилось, он увидел бы, что до стен Самрула было по крайней мере три версты, однако, по прежнему — только плотные, стремительные, темно-серые стены окружали их.
Сильнэм рычал от злобы, чувствовал, что — это ненавистное, колдовское еще дергается, и все продолжал сдавливать, и все продолжал вгрызаться в плоть Сикуса. Ворон уже улетел, однако, ледяные когти продолжали терзать его голову, а вкрадчивый голос продолжал шептать: «Видишь, какие они живучие?!.. Все то они такие! Их не так то легко убить — не так то легко к своей любви прорваться!» — Тут Робин почувствовал, что сейчас задохнется, в грязи этой захлебнется. Он, впрочем, еще продолжал делать отчаянные рывки вперед. Эта мысль о смерти пришла к нему спокойно, он сразу примирился со смертью, и хотел только как-то облегчить страдания этого несчастного, вцепившегося в его шею. Ему не раз в положениях отчаянных доводилось придумывать стихи. Он повторял поэтические строки, и прежние, и вновь придуманные, когда его секли кнутами; когда изгорал от небесной страсти к Вероники; когда замерзал; когда умирал от голода — вот и теперь он победил окружающий хаос; и, хотя первые строки дались ему с трудом — потом он уже говорил не останавливаясь, со все большим пылом:
И голос памяти моей,
И жизни прожитой мгновенья,
И лица встреченных людей —
Подобны призрачным виденьям.
Не так уж часто, в тишине,
Я вспоминаю прожитые годы,
А ты в спокойном радужном огне,
Войдешь в души пылающие своды.
Ты тихо входишь в этот храм,
Улыбкою ласкаешь,
Я шепчешь: «Вот и счастье вам,
И небом сердце обнимаешь»…
Он остановился было, и ужаснулся, но не потому, что Сильнэм все душил его, и смерть могла забрать его в любое мгновенье, но потому что строки эти не произвели на Сильнэма никакого действия, что он то, Робин, уходит в счастливое бытие, к любви своей, а этот остается таким же несчастным, в мучении пребывающем озлобленным; и вот он — прилагая все силы свои, чувствуя, как с каждым словом наливается в голове, кровью истекает раскаленный колокол, зашептал: