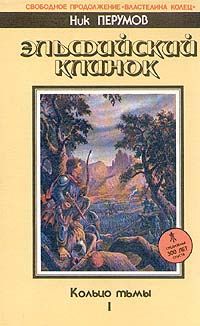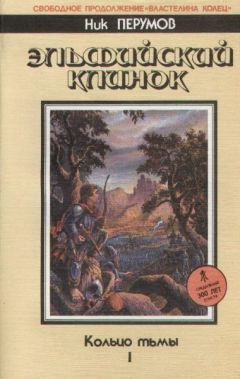Дмитрий Щербинин - Буря
Аргония пыталась его удержать, повторяла, что он должен одуматься, но ей это не удавалось — Альфонсо был подобен стихии, вихрю темному — вот уже остановился перед вороном, с ненавистью вглядывался в его призрачное лицо, вытягивал к нему руки, и все кричал:
— Ты все хотел мне какое-то кольцо одеть… Волшебное, ведь, кольцо — да?! Одену — рабом твоим стану — так ведь?!.. Давай же его, и радуйся — но одну просьбу сначала исполни: воскреси ЕЕ!
И вновь из глаз ворона нахлынула тьма, стали они непроницаемыми, и вновь, словно железками, заскрежетал он зубами. Вот стал приближать свой расплывающийся лик к Альфонсо, но между ними встала Лэния, зашептала:
— Пожалуйста! Ты должен бороться… А ты, неведомый мне — ты повернись к Аргонии — она любит тебя — по настоящему любит…
И тут она повернулась, обвила за плечи ворона, прижалась в поцелуе к губам ворона. Как раз в это время, расталкивая кольцо оцепеневших эльфов, прорвался к этому месту Келебримбер, узнавший, что его дочь нежданно появилась. Он как раз слышал ее последние слова; видел, как припала она к темным губам — и тут же понял, кого она целует.
— Нет!!! — вскричал он, замахиваясь громадным двуручным мечом, который был легок и рубил и гранит и сталь.
Государь Эрегиона сразу почувствовал, что пред ними стоит один из самых могучих кудесников тьмы — понял, что его дочь заколдована им, и вот решил, что его выкованный гномами, полный эльфийских чар клинок сможет остановить колдуна. Он ударил снизу вверх, и сбоку, намериваясь раскроить его голову надвое. Однако, один из светлейших эльфийских клинков, против которого не устояла бы и драконья чешуя, рванулся, словно живой мускул, и вывихнул его запястья — руки отдались нестерпимой болью — он не смог удержать клинок, и тот, уже сам по себе, пройдя через плоть ворона, ворвался под углом в шею Лэнии — Келебримбер бешено вскрикнул, так как увидел уже обильно хлынувшую кровь своей дочери — он отдернулся назад, но в скручиваемых болью, непослушных руках его оставался лишь дымящийся обломок.
Ворон, которому удар этот не причинил никакого вреда, отступил назад, и Лэния, скользнув ладонями по его плечам и груди, медленно осела на что-то бесформенное, смятое, скорее похожее на холодную, окровавленную грязь, нежели на снег. Она закрыла ладонью горло, однако — кровь продолжала выбиваться оттуда упругими толчками: она смотрела на ворона, взгляд которого вновь был непроницаемо темен — смотрела с мольбою, пыталась сказать что-то, да уж не могла, лицо ее бледнело, худело — жутко было смотреть на нее, лишь за несколько мгновений до того, такую трепетную, казалось бы предназначенную жить вечно, века любить… Но она молила своим взглядом: «Все равно исполни — ведь этот светлый порыв столь прекрасен — он самое прекрасное, что есть в тебе! Не отступайся!.. Борись!.. Ежели ты сможешь вырваться из мрака — мы будем вместе — слышишь — мы, все равно, будем вместе!»
Она повернулась еще к Альфонсо, и ему пыталась что-то сказать, но тут силы оставили ее, и она бездыханная, опустилась на эту грязь, так, как усталый путник опускается вздремнуть на ковер нагретых солнцем трав. И все смотрели на нее в недоумении, каждый думал, что произошло какое-то мгновенное недоразумение, что сейчас все растает как бредовое виденье. Но она лежала недвижимая, с бескровным заострившимся ликом, и не грязь ее окружала, но словно бы око пышущее младую, ярко-красной кровью. Око это расширялось, казалось — сейчас вот вспыхнет погребальным костром…
Та страница, из летописи Эрегиона пострадала столь сильно, что я только с превеликим трудом смог разобрать из под тьмы спекшейся крови следующее: «Никогда не доводилось нам видеть боли той, которая охватила тогда государя Келебримбера. Даже надрывы мученика не сравнятся с его страданьем — он выл волком, он бросился к дочери, он вопил, призывая ее вернуться, он жаждал броситься на меч, и только дюжина наших воителей смогли его удержать (да и то — с превеликим трудом). Тогда он стал безумным, тогда из глаз его кровь хлынула…»
Кровь шла не только из глаз, но и из пор кожи — казалось, от этого, невыносимого напряжения, Келебримбер попросту разорвется в клочья — он, чуть приподняв ее из крови, держал Лэнию за руки, стоял так покачиваясь, и тогда же сложил плач, который записан был в песеннике Эрегиона, и почитался одной из лучших эльфийских песен — говорили, что даже не понимавший слов, не мог сдержать слез — настолько жалостливым был мотив — это была одна из тех драгоценных, но нынче утерянных песен, от которых возвышается, стремясь к высшему свету, душа. Как жаль, как жаль, но те строки пожрало пламя — знаю, что их помнит еще ветер, и иногда, в осеннюю пору, чуткое ухо может уловить в его движении отголосок того мотива… Но кто же найдет строки — неужто их красота утеряна, и… И лишь потом, когда этого мира не станет, когда встретятся великие хоры людей и эльфов, среди них грянет и эта пронзительно-печальная нота — то будет глас Келебримбера, убившего собственную дочь. Та песня подобна была камню на воде волна поднявшему — некие отголоски ее и среди людей всколыхнулись — дошли и до нынче разоренной волками деревеньки. Приведу эти строки — не слишком любимые крестьянами за их печаль, и которые столь же походят на истинный плач Келебримбера, как пламень в камине, от необъятных просторов бесконечно взрывающейся звезды, бесконечно одинокой, бесконечно страдающей:
— Слова, как капли в океане,
Безбрежной, пламенной тоски,
Вот ты лежишь, в огне-саване,
А мысли… мысли высоки.
Летают там, среди галактик,
Среди миров, среди светил,
Я там, как маленький солдатик,
Который вечность победил…
Один, один — не знаю, кто я,
Но — это чувства, не слова,
Не выразить словами горя,
И вниз клонится голова…
И вновь слова, как стоны рвутся,
И мы в разлуке, навсегда,
Ведь в тех просторах не найдутся,
Пылинки, чувства никогда…
И вновь порыв, и вновь стремленье,
И вой, и пламень из груди:
«Ведь ждет миров соединенье,
Частичек, душ… то бесконечность — впереди».
— Что ж теперь… — шептал, в те давно уж ушедшие мгновенья Альфонсо.
Но ворон ни ему, ни кому либо из стоящих поблизости, не сказал тогда ни слова: он только взмахнул крыльями, взвыл — задрожала земля, воздух потемнел — взмыл он ревущим черным смерчем, и тут все увидели, что разливается над ними громадное, черное облако — стремительно клокотали, переваливались друг через друга выступы, из глубин наползал зловещий, мертвенный свет, сотни молний зарождались там, грохотали с болью, смерть суля, но не вырывались вниз — затем, все-таки — вырвались — сотнями слепящих колонн вытянулись до кишащей терзающими друг друга телами, измученной земли — они, безумно воя, собрали многих и многих, и из эльфов, и из людей, и из бесов — но этого им показалось мало, и, только угаснув, они тут же вытянулись вновь, испепелив еще многих и многих — однако — ни одна из этих колон не ударила на ту площадку, где было столько надрыва душевного.
* * *Вэллиат и Маэглин так и не смели больше прикоснуться к Вэлласу, а тот вопил с еще большем надрывом, нежели прежде — и в этом голосе было столько страдания, столько уже совершенно безумно, что, казалось — лучше, все-таки, прекратить эти мученья. А он так молил, чтобы они прекратили:
— …Всего то один удар! Закройте глаза, опустите клинки — вы хоть одно доброе дело совершите!..
Иногда, когда он заходился продолжительным воплем, и только и думалось — когда же он, все-таки, прекратится — Вэллиат заносил приросший к руке клинок, да тут же и опускал его, не в силах, все-таки, нанести рокового удара. А Вэллас все вопил и вопил. Бесы некоторое время не выбирались из него, и гул сраженья пришел доносился откуда-то издалека, и поблизости не осталось ни одного беса. Грязь в разодранной его груди кипела жаром, дымилась чем-то невыносимо густым, огнисто жарким.
— Братец, милый ты мой! Ох — сейчас же какой-то страшный образ из меня выберется! Так то мне страшно теперь! Этот образ меня самого сразу же поглотит! Убей ты меня — уж не могу — уж никак не могу дальше эту муку выдерживать!..
Из него выбралась Маргарита — он все это время страстно думал о ней, представлял, что она единственная, может вырвать его из этого мученья — и это был какой-то расплывчатый, постоянно меняющий свои очертания контур, который то вырастал метров до пяти, до становился лишь в несколько сантиметров. Он то жаждал, чтобы она появилась такой, какой запомнил он при первой их встрече, когда они только начали кружить в первом из своих танцев — но приходили воспоминанья все мрачные, когда она уже переродилась, когда жутким призраком ходила — звала его на помощь. Вот и теперь глаза ее вспыхнули мертвенным светом, а, когда раскрыла она рот: вырвалось оттуда темно-серое снеговое кружево, завыло в муке.