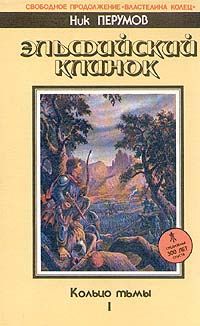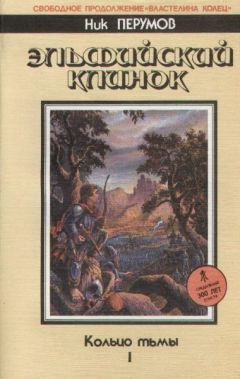Дмитрий Щербинин - Буря
Итак, тролли бросились на Скача, и, конечно же, не одному коню не удалось бы выдержать их натиска — но этот конь вмещал в себя силу нескольких табунов, и удары его копыт были подобны ударам величайших эльфийских воителей. У троллей переламывались каменные их кости, они тяжелыми мешками отлетали назад, валя и ряды надвигающиеся следом. Но всей силы Скача было недостаточно, чтобы остановить их наступление — он едва удерживал двери; а в это время уже раздрабливались стены, и весь домик дрожал, готовый рухнуть, от бессчетного множества устремленных на него ударов.
Очнулся и Тэрен, подхватил свой клинок, и отсек лапу тролля, который тщетно пытался протиснуться в окошко. Возлюбленная вещала:
— Как быстро: из рая в ад — в одно мгновенье. Любимый! Оставь меня. Сердце мне говорит: ежели оставишь — уйдешь вместе с конем, и еще много славных подвигов совершишь — я то погибну, ну что ж — и ты умрешь, а мне, после смерти, одно лишь мгновенье твою душу подождать надо будет — так же быстро пролетит это сладостное ожиданье, как блаженный сон, как то, что между нами сейчас было. Ежели возьмешь: все по иному сложиться — все равно не спасешь, но долгим, долгим будет ожидать…
Не послушался ее Тэрен, хоть и его нехорошее предчувствие в сердце кольнуло. Подхватил он ее на руки, бросился к двери, за которой уж ждал его, из последних сил удерживал троллей Скач. Усадил Тэрен плачущую возлюбленную в седло, сам же нанес несколько могучих ударов, хотел уж и сам на коня запрыгнуть, но в это мгновенье взобравшийся на крышу тролль прыгнул сверху, и обрушил удар молота на девушку — она умерла сразу…
Обезумел от этой потери Тэрен, забыл о том, что ни ему, ни кому в ком бьется смертное сердце не одолеть такого воинства. Завыл он волком, стал прорубаться через ряды тролли, вихрем кружился, змеей извивался, в каждое мгновенье удары могучие наносил, пробивал эту каменную плоть до тех пор, пока молот не обрушился ему на плечо, и сразу переломил его, и рука его отнялась — выронил он клинок, и тут то прорвался к нему Скач — Тэрен дрался бы и уцелевшей рукой, кулаком, но конь так налетел, что он повалился в его седло, а тот тут же метнулся вперед.
Тролли были разъярены, ибо не ожидали, что встретят такое сопротивление, и потому проявили ловкость невиданную для громозкого своего, тупого племени — так один из них умудрился нанести удар сзади, перебил круп Скачу, иной удар ударил сбоку и проломил ребра — и, все-таки, конь остался бы в живых, излечился бы потом, если бы не отряд наемников лучников, с отравленными стрелами, которых хитроумный волшебник предусмотрительно расставил вокруг побоища. Они то и не ожидали, что им придется применить свое мастерство, потому несколько замешкались, и стрелы полетели на несколько мгновений позже — потому Скач успел прорваться, и лишь одна стрела стрела вошла в его плоть.
Он мчался, сколько хватало у него сил, а затем, когда достигли они небольшой расселины, укрытой среди снежных полей, вздохнул устало, и медленно опустился на колени.
— Ну, вот и все… — тихо молвил Скач. — Этот яд был приготовлен на славу, здесь не обошлось без волшебства — он знал, кто я… Если бы не было этих ран, я бы еще смог справиться, но… теперь я слишком слаб…
— Нет, нет — как же так может быть?! — зарыдал Тэрен. — Как же может быть так?! В один день я потерял два величайших сокровища, ради чего же мне же мне жить дальше — неужели ради одной только мести?!.. Нет, нет — так холодно и одиноко… Я тоже умру, замерзну среди этих полей…
— Подожди еще немного! Это будет последний мой полет! — выкрикнул тут Скач, и, взметнув могучую свою волю, смог подняться — и помчался вперед сквозь кружение снежинок…
Он бежал до самого рассвета, и в час, когда появилось жизнь несущее светило, остановился на заснеженном брегу того самого озерца, рядом с которым случилась их первая встреча. Там медленно опустился он в снег, там и остался — недвижимый, очи его закрывались, а последними его словами было:
— Нам суждено быть вместе, до самого конца…
Тэрен не замерз, ибо его подобрала, и излечила добрая старушка-крестьянка которая построила свою лачужку на пепелище дома, в котором прошло детство Тэрена. Она же, по его просьбе, вырыла и могилу для Скача, и уж потом сам Тэрен возвел над ним достойный холм, из которого в первый же год устремился к небу побег дуба.
И в тот же первый год, в теплую спокойную летнюю ночь, когда все на многие версты окрест было окутано теплым покрывалом тишины, и весь мир казалось погрузился в сказочный детский сон, Тэрен повалился на этот холм, и, глухо рыдая, тихо-тихо зашептал:
— Забери меня отсюда. Пожалуйста, молю тебя — забери. Что мне эта жизнь, когда Вас нету рядом? Нет — не хочу покоя, не хочу ожидания смерти; пусть смерть придет сейчас, ибо я жажду быть с Вами, ушедшими, а у меня лишь одна память — день изо дня продолжается это мученье! Так снизойдите же к этой мольбе!
И голос его был услышан: все вокруг засеребрилось, зазвенело торжественным звездным хором, и из сияния этого устремился навстречу Тэрену брат его Скач. Теперь это был призрак, и как только Тэрен коснулся его, так и тоже стал призраком; он вскочил в седло, а в руках его уже был верный меч. И он испытывал такой восторг, как и при первом полете, когда еще был мальчиком — и он не смеялся, но в великой радости душа его пребывала.
И не ушли они за пределы, туда, где ждала Тэрена душа возлюбленной; провиденьем, да и собственной волей был уготовлена им иная судьба: не знающие не усталости, ни голода, ни холода, ни жара летят они над полями, парят среди горных ущелий, и горе тем лиходеем, которые встретятся на их пути — тут уж пощады не будет. Как сон проносятся для призраков годы, пусть полны их дни великих деяний, но все же — окружающий мир, вся жизнь их — как сон, и века пролетают, как облака в небе: величественные, полные грандиозных форм… расплывающихся, ничего не значащих, уходящих в небытие форм…
Ах, добрый человек, ляжешь ты среди степей необъятных, и окутанный теплым дыханием земли, будешь смотреть в ночные небеса. Красота… бесконечность… Часы, как мгновенья пролетят для тебя в созерцании, и в сердце тихо расцветет спокойствие и Любовь. На фоне звезд, плавно проплывет наполненное призрачным светом облако, удивительно напоминающее коня и всадника на нем, и тогда, быть может, услышишь ты пение — такое тихое, такое слитое с этим небом, что даже и не поймешь потом, действительно ли ты его слышал, или же только сон вздохнул в твоей голове:
— Луна и звезды — меж миров,
Спокойствием все тихо дышит;
Земля, как жизнь, в объятьях снов —
Всю вечность в дреме слышит.
Земля пред космосом мала —
Как капля в темном океане;
Так жизнь людская, — унесла
Ее стрела в колчане.
Да и века, что здесь плывут
В сверкании багряном
Спокойно в вечность отойдут
Неспешным караваном…
Все время рассказа заняло не менее часа, однако, все это время, ни разу Робин не был прерван. Сначала то он сбивался, задыхался от волнения, но затем голос его окреп, и он настолько погрузился в эту историю, что уж и не видел окружающего, но глаза его сверкали, и несколько раз нагибался он над Мцэей, вглядывался в лик ее, но, как бы и не видел этого лика, но весь как-то пылал, и всем чудилось, будто за словами стоящими на первом плане, за словами, которые так отчетливо звенели в этом воздухе, проступало еще и слово, как могучее заклятье звучащее: «Люблю! Люблю! Люблю!»
И вот на страстный голос Робина стали сходится воины, они становились вокруг него кольцом, и вскоре он оказался окруженный их плотной, темной массой — и все они, темные от крови, стояли на фоне этого яркого, багряного неба, в молчании взирали на него; и пораженные не столько самим рассказом, сколько силой его чувства, стояли все время не шевелясь, ни говоря ни слова.
Но вот он, рыдая, проговорил последнее стихотворение, тут же и приник в страстном поцелуе к Мцэи, и так застыл на несколько минут — и в течении этих минут никто не пошевелился, но все как зачарованные ждали какого-то чуда.
И вот он метнул взгляд к ослепительно кровавому небу, затем — на это окружающее его черное кольцо; затем, оставив Мцэю, резко вскочил на ноги, стремительно стал оглядываться; закрутился, и вдруг бросился к одну из сынов Троуна, который стоял рядом, схватил его за плечи, сильно сжал — и теперь вглядывался в его лик…
Этот воитель с детства привыкший ко всяким зверствам, не выдержал, содрогнулся, отшатнулся — лик Робина, в эти мгновенья был действительно ужасен. Это изъеденная шрамами до кости плоть, этот перерубленный надвое глаз, эта зияющая чернотой глазница; наконец — это единственное око, так и извергающееся ужасом, кажется надвигающееся какими-то стремительными черными валами, безумное, изжигающее; словно многометровый ярящийся водоворот в море, затягивающее в себя. Голос Робина разрывался, выплескивался, метался из стороны в сторону, как нечто громадное, пытающееся найти выход, и рвущееся от безысходной тоски: