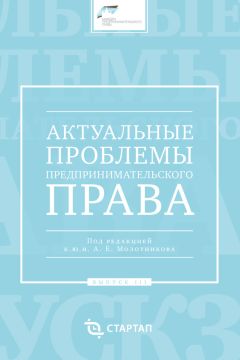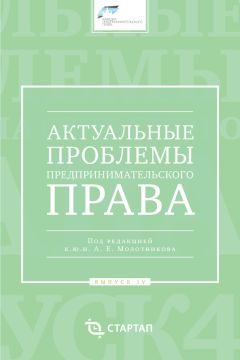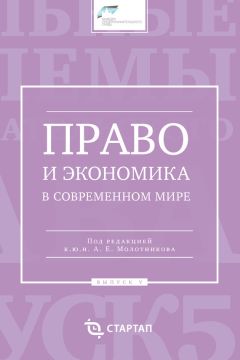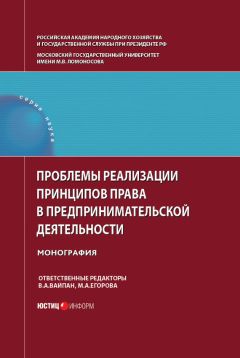Коллектив авторов - Внедоговорные охранительные обязательства. Учебное пособие
Подытоживая сказанное, следует сделать вывод, что вред выступает в качестве единой категории, включающей как имущественный, так и неимущественный вред. Ущербом является только имущественный вред. Денежная форма ущерба именуется убытком.
2. В цивилистике под противоправным понимается такое поведение субъек та, которое одновременно нарушает норму права и субъективное право лица[92]. Но следует отметить, что среди ученых не сложилось единого мнения о сущ ности противоправности. Одни отождествляют ее с правонарушением, другие считают, что противоправность характеризуется самим фактом нарушения нормы. Поэтому первые в нее включают вину, а вторые рассматривают ее как один из элементов правонарушения[93]. Также говорят, что через нее проявляется социальная опасность деяния и отрицательное отношение к поведению правонарушителя[94], в силу чего она характеризуется объективным и субъективным аспектами[95].
Обоснованной представляется позиция тех ученых, которые противо правность рассматривают в качестве элемента правонарушения, ибо в праве она имеет самостоятельное, не сводящееся к ответственности значение. Она проявляется при нарушении лицом норм права и морали, когда закон придает им правовое значение[96], посредством нарушения чужого субъективного права без должного на то управомочия[97]. Поэтому нельзя согласиться с Е. А. Михно в том, что при причинении морального вреда противоправность должна определяться «не только нарушением норм права, но и нарушениями правил, выработанных представителями какой-либо профессии…»[98]. Вряд ли ее можно напрямую связывать и с социальной опасностью деяния, так как происходит отождествление противоправности и общественной опасности[99]. Между тем осознание лицом противоправности своего деяния связано с ее соотношением с виной как отдельных элементов единого акта его поведения, а общест венная опасность отражает оценку поведения со стороны потерпевшего и общества, которая может быть различной. Вопрос же о том, является или нет основанием гражданско-правовой ответственности не только нарушение чу жого субъективного права, но и нарушение правового запрета, установленно го в интересах правопорядка в целом, в науке гражданского права дискуссионный[100]. Нельзя также согласиться с позицией В. В. Витрянского относительно того, что «условие противоправности относится не к действиям (бездействию) должника, а к самому нарушению субъективных гражданских прав»[101], ибо происходит отождествление противоправности и основание гра жданской ответственности, поскольку в качестве такового он рассматривает нарушение субъективного гражданского права.
Применительно к институту возмещения и компенсации вреда о противоправности высказано две точки зрения. Согласно первой, она основывается на общей норме (ст. 574 ч. 1 т. X Свода законов, ст. 403 ГК 1922 г., ст. 444 ГК 1964 г., ст. 88 Основ 1961 г., ст. 126 Основ 1991 г., ст. 1064 ГК РФ), которая, за крепляя конструкцию генерального деликта, устанавливает презумпцию про тивоправности всякого причинения вреда[102]. В соответствии со второй проти воправность связана с нарушением конкретных гражданско-правовых норм, а в отдельных случаях и норм иных отраслей[103].
С одной стороны, нельзя не обратить внимания на противоречивость до водов отдельных ученых в обоснование тезиса о презумпции противоправно сти всякого причинения вреда, вытекающую из конструкции генерального деликта.
Так, С. М. Корнеев, исходя из принципа генерального деликта, отмеча ет, что, согласно ему, «причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправ ность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется». Но далее он пишет: «Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого принципа, но определяет условия, при которых вред подлежит возмещению», и относит к ним противоправность поведения причинителя. В итоге он приходит к выводу, что «принцип гене рального деликта никоим образом не означает, что ответственность должна применяться в силу самого факта причинения вреда»[104].
По утверждению В. В. Витрянского, «любое неисполнение или ненадле жащее исполнение договора является a priori нарушением норм права. Это вытекает из положения, содержащегося в ст. 309 ГК…». Поэтому «примени тельно к подавляющему числу случаев применения договорной ответствен ности противоправность неисполнения либо ненадлежащего исполнения должником обязательств презюмируется и не требует никаких доказательств со стороны кредитора». Однако далее он заявляет, что «в тех случаях, когда должник ссылается на имевшие место в ходе исполнения договора обстоятельства, свидетельствующие о невозможности исполнения обязательства или отсутствии вины должника в его нарушении (когда наличие вины требу ется по закону), оценка противоправности неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства приобретает юридическое значение. При этом бремя доказывания наличия всех указанных обстоятельств возлага ется на должника»[105].
A. JI. Маковский, ссылаясь на п. 1 ст. 1064 ГК, говорит, что «в понятие вреда, подлежащего возмещению, уже implicite включается противоправ ность всякого причинения вреда»[106].
По мнению В. К. Райхер, «виновное причинение вреда уже само по себе есть противоправное (неправомерное) действие», и поэтому указание на про тивоправность как одно из условий возникновения обязательств из причине ния вреда излишне. Подразделив вредоносные действия на три группы: а) запрещенные законом; б) действия, на причинение вреда которыми закон дает разрешение; в) не запрещенные и не разрешенные действия, – он сделал вывод, что «к числу общих основа ний ответственности за причинение вреда неправомерность (противоправ ность) действия не принадлежит»[107].
С другой стороны, утверждение указанных ученых о существовании в отечественном гражданском праве генерального деликта не соответствует действующему законодательству и предписаниям на этот счет основных пра вовых семей[108]. Дело в том, что возмещение и компенсация вреда по системе генерального деликта строятся только в романской правовой семье (ст. 1382–1386 ГК Франции 1804 г., § 1295 ГУ Австрии 1811 г., ст. 914 ГК Греции 1940 г., ст. 2043 ГК Италии 1942 г., ст. 483 ГК Португалии 1966 г., ст. 1969–1971 ГК Перу 1984 г.). В германской правовой семье, к которой относится и российское гражданское право, это протекает в порядке смешанного деликта (ст. 1602–1617, 2341–2360 ГК Колумбии 1873 г., § 823–853 ГГУ, ст. 41–163 швейцарского Закона об обязательственном праве, ст. 1064–1101 ГК РФ), а в англосаксонской правовой семье (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия) – на основании сингулярного (единичного) деликта[109].
Развитие гражданско-правового института возмещения и компенсации вреда и позиция законодателя, определяющего последствия причинения вреда с учетом характера и направленности вредоносного действия, свидетельствуют о том, что им воспринята вторая точка зрения. Поэтому указанный институт не основан на конструкции генерального деликта[110] и не закрепляет презумпции противоправности всякого причинения вреда[111]. Отдельные его положения не относят ряд действий причинителя к противоправным, что, однако, не препятствует их квалификации по другим нормам (абз. 2 п. 3 ст. 1064, ст. 1066, 1067 ГК), которая вопреки мнению А. Л. Маковского согласуется с положениями п. 1 ст. 1064 ГК РФ. Если стать на позицию авторов, отстаивающих названную презумпцию, то любую деятельность, как заметил С. Н. Братусь, можно квалифицировать как виновную[112].
Вместе с тем вредоносное деяние нельзя характеризовать одновременно как правомерное, со стороны причинителя, и как противоправное, со стороны потерпевшего, примером которого, как считают С. Н. Корнеев и В. В. Лапач, является действие в состоянии крайней необходимости[113]. В цивилистике оно неизменно определяется как правомерное и общественно полезное, а возмещение причиненного им вреда не связано с правонарушением[114].
Нельзя согласиться и с теорией «удвоенной противоправности» А. П. Ку на, которой считает, что возмещение вреда, причиненного актами власти, «предполагает наличие противоправности двух видов: 1) гражданско-правовой; 2) административно-правовой (уголовно-процессуальной и т. д.)». Первая, согласно презумпции противоправности причинения вреда, выражается в самом причинении вреда, а вторая в соответствии с презумпцией правомерности актов власти – в его незаконности[115]. Если противоправностью считать само причинение вреда, то она «как условие ответственности теряет свое значение, реальное содержание этого понятия выхолащивается, оно становится излишним»[116]. К тому же удваивать здесь противоправность «нет оснований: если вред причинен правомерным («правильным», законным) актом власти, «гражданско-правовая противоправность» (то есть само причинение вреда) оказывается юридически безразличной, не влечет правовых последствий в области гражданской ответственности…»[117]. Вопреки утверждению многих авторов[118] не существует презумпции правомерности вредоносного акта власти и органы публичной власти (их должностные лица) не управомочены на причинение вреда. Напротив, согласно ст. 249 ГПК и ст. 200 АПК, здесь действует процессуальная презумпция противоправности актов власти, которая широко применяется судебными органами[119].