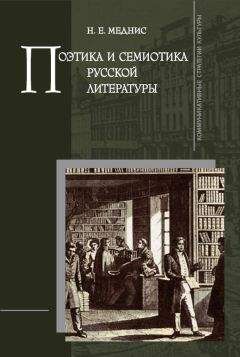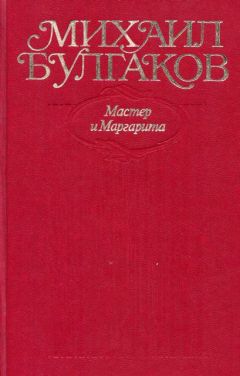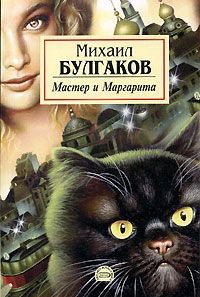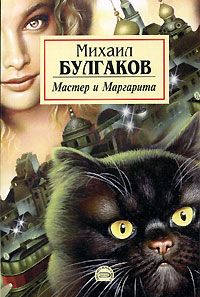Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
Хочется возразить Ю. М. Лотману, увидевшему проблему Востока в «Песне…» Лермонтова. Конечно, Кирибеевич, родственник Малюты Скуратова, имеет татарское «бусурманское» имя и происхождение. Сам себя, однако, он таковым не считает, что видно из его слов на пиру, когда он просит царя отпустить его в степи, где бы он погиб от руки бусурманина. С точки зрения Калашникова, Кирибеевич – «бусурманский сын», но не потому, что он по крови татарин, а потому, что ему невнятна Правда Христа, правда христианского брака, на которой держится «весь крещеный мир».
Вообще данная Ю. Лотманом характеристика Кирибеевичу как герою, образ которого «отмечен чертами хищности и демонизма»' и соотнесен с романтическими «злодеями», нам кажется неточной и не описывающей художественный конструкт созданного Лермонтовым характера. С нашей точки зрения, весь характер «молодого опричника» строится как производная самодержавной власти, вся его суть в том, что он «слуга царя, царя грозного». Именно поэтому в самом названии поэмы «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Степана Калашникова» Кирибеевич не назван по имени, будучи, в сущности, безымянным героем, только функцией самодержавной власти царя Ивана Васильевича.
Гораздо важнее «восточного» происхождения Кирибеевича является его родство с Малютой Скуратовым, именно в этом обстоятельстве царь видит несомненное достоинство и, так сказать, фамильную честь молодого опричника.
Имя Малюты Скуратова на Руси стало нарицательным и обозначает оно кровавого палача, но не только беспримерная жестокость Малюты оставила след в памяти народной, он еще ужаснул Русь доселе невиданным святотатственным и подлым убийством Московского митрополита Филиппа Колычева, отказавшегося благословить расправу над Новгородом и открыто именем Христа противостоявшего власти [177] самодержавного злодея. Задушив «подглавием» (подушкой) беззащитного старика Владыку Филиппа[178], Малюта доказал, что никакого Бога, опричь бога на земле, для него не существует. Так раскрывала себя в истории богословская идея обожения царской власти, опиравшейся на институт опричнины. Сама же опричнина, на уровне государственного устройства противопоставленная царем «земщине», на уровне идеологическом являла собой оправданность буквально любого деяния, если оно было освящено волей царя. «Верный раб», опричник, был званием своим выведен из-под любого суда и заранее получал оправдание, что бы он ни творил на Руси. Так «опричь» всех законов и всех традиций, отрицая все святыни, цинично и жестоко осуществляла себя самодержавная власть ИванаIV, строившего сильное централизованное государство. Твердо стоял за правду Христову подвижник и мученик, причисленный впоследствии православной Церковью к лику святых, Филипп Колычев, глава Русской Православной Церкви, являя России образ духовной победы над своим палачом, отдавая Богу Богово, а Кесарю Кесарево[179]. Мне показалось уместным вспомнить этот сюжет из русской истории, так как он вполне изоморфен рассматриваемым нами литературным сюжетам верховной власти и прямо связан с именем Малюты и временем Ивана Грозного.
Вернемся к тексту поэмы Лермонтова, чтобы проанализировать разрешение конфликта. В кулачном бою, который может быть понят только как Суд Божий, опричник погиб; его смерть есть знак победы Божьей Правды и вынесение обвинительного приговора. Однако, с точки зрения царя, который не знает об истинной причине противостояния героев, убийство его любимого опричника на глазах государя и народа может быть истолковано только как государственное преступление, как демонстративный выпад против власти царя. Разгневанный царь от купца Калашникова требует ответа на единственный тревожащий его вопрос:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»
Если Калашников убил «вольной волею», то он государственный преступник и заслуживает казни как изменник. Ответ героя поэмы тверд, прям и честен:
«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что – не скажу тебе,
А скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить – и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молоду вдову
Да двух братьев своею милостью…»
В своем ответе купец Калашников восстанавливает ту модель мира, которую учение Ивана Грозного о самодержавной власти разрушало: он отказывается признавать в царе бога на земле. Он отдает Богу Богово, а кесарю кесарево. Отказываясь исповедоваться перед царем, он последовательно воплощает верность Царю Небесному, а царь на земле так и остается в неведении о драме, разыгравшейся в частной семейной жизни его подданного. Калашников своим ответом очертил предел власти самодержца, за этот предел воля царя не может простираться, его всемогущество оказывается однозначно неполным; собственно говоря, ответ Калашникова – это поругание гордыни земного владыки. Обратим внимание, что царь вообще не имеет возможности, говоря на современном языке, получить информацию об этом событии: сначала Кирибеевич обманет царя, украв царское благословение на противозаконное деяние; потом, защищая свою честь и свое доброе имя, молча пойдет на казнь народный герой Калашников: народный потому, что осмелился принародно отстаивать перед властью самодержца свою духовную свободу и человеческое достоинство. За эту свободу Калашников заплатил смертью «лютою, позорною», но он также снискал себе посмертную славу и остался в памяти народной: гусляры о нем поют по всей Руси песню.
Очень важным нам кажется указать на то, что в лермонтовской модели мира самодержавное правление неизбежно обрекает царя, даже против его воли, на конфликт с народом. В лермонтовской поэме, как и в пушкинском стихотворении «Какая ночь!…», перед нами предстает самодержавная идея в своем бытии, которая в своей претензии на абсолютную универсальность, на полный захват всего пространства жизни обнаруживает противоречия внутри себя самой, порождая то сопротивление «верного коня», то противостояние «народного героя».
Калашников погиб по собственной воле, его гибель – это его сознательный выбор. Его смерть полна достоинства воина, сложившего свою голову за правое дело.
Образ царя Ивана Васильевича в поэме Лермонтова очищен от низменных страстей: мстительности, свирепости, сладострастия мучительства, столь присущих историческому его прототипу. У Лермонтова царь не злодей и не кровопийца, он просто предельно последователен в своих убеждениях, в своей вере в собственную самодержавность, и ответствен он только лишь за систему идеологии, при которой кровавый палач опричник Малюта Скуратов превознесен как идеал верного служения, как образец для подражания, как эталон героя, а подлинный народный герой неизбежно обречен казни. Такая идеология не может не развращать «жалкую толпу, стоящую у трона», она и формирует «лукавых рабов», способных преступить любые святыни.
Молодой опричник Кирибеевич, ведомый гибельной страстью к замужней женщине, трагическим героем тем не менее стать не может в силу стремления использовать с максимальной для себя выгодой свое положение «любимого царского опричника». Действуя расчетливо, будучи уверен в своей безнаказанности, он являет собой тип «лукавого раба», образ весьма далекий от образа романтического героя, который, по определению Ю. Лотмана, хотя и «присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы», но «ценой безграничного одиночества покупал величие и право быть выше нравственного суда других людей».[180]
* * *Имеет смысл вспомнить замечательно воссозданную в книге Ю. М. Лотмана – «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» – историю пушкинской дуэли.[181]
Главные положения его концепции пушкинской дуэли являются обобщением данных исторической науки и литературоведческих исследований по этому вопросу в пушкинистике. Вот конспективное изложение этих положений. Мы рискнули здесь дать пересказ, очень близкий к лотмановскому тексту, практически дословный, в котором использованы его отточенные формулировки, чтобы по возможности сократить объем текста.
Дантес – без гроша денег, без видов на будущее усыновлен бароном Геккереном, чтобы прикрыть их «двусмысленные отношения». Красивый, рослый, с привлекательной улыбкой Дантес легко играл роль «доброго малого», но на самом деле был сух, корыстолюбив и расчетлив. Странность его отношений с Геккереном ложилась грязным пятном на его имя. Выходом из этого положения был гласный и шумный роман с известной дамой света. Все поведение Дантеса ясно показывает, что он был заинтересован именно в скандале. Это была не любовь, а сознательный расчетливый ход в низменных карьеристских поползновениях.