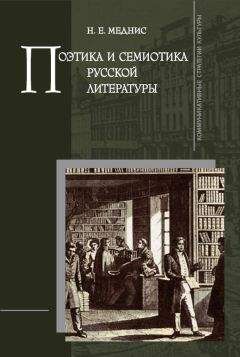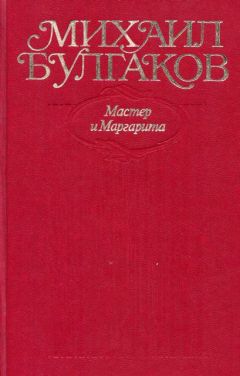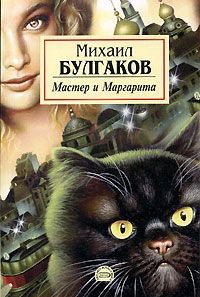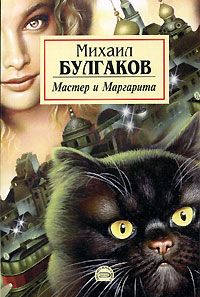Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
Ключевский писал, что Грозный «… прежде всего сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самобожения в виде ученой теории о царской власти».[176]
Из идеи обожения царской власти следует, что задачей подлинно добродетельного подданного является полное слияние своей воли с царской. Точно так же истинно верующий должен стремиться к полному слиянию всех своих помыслов и желаний с божественной волей, чтобы она была пропущена через его собственное сердце.
Конечно, в стихотворении Пушкина перед нами «изнаночный» мир и антигерой, и, как настоящий герой, «кромешник» преодолел страх, и, как настоящий герой, он победитель, только преодолел он страх не своей смерти, а чужой, только победа его – это насилие и надругательство над беззащитными: над казнимым, над трупом казненного, над конем, женщиной, – не могущими ответить. Он, имея гордую осанку воина, является палачом, усердным рабом, а не увенчанным славой героем. Чтобы понять, насколько изнаночен, перевернут мир «кромешника», нужно осознать, что он гордиться глобальностью и масштабом небывалых на Руси казней, как воин гордится масштабом выигранного сражения, где знаком величия победы являются горы трупов врагов.
С тем, кто Кесарю отдает Богово, происходит закономерное изменение: он теряет Страх Господень – зрение совести – и выпадает из единства не только людского, но и всего живого; ведь даже в мире природы хождение по трупам невозможно.
От начала культуры человечества пластический образ всадника – это образ покоренной природы. Этот образ вполне отражает и идею отношений самодержавной власти с Россией: недаром чаще всего скульптурное изображение императора как в мировом искусстве, так и в русском – это образ всадника. «Кромешник» и его отношения с конем – это микромодель множества возможных сюжетов отношений помазанника Божьего с Русской землей.
Ясно, что образ опричника, явившийся поэту в 1827 году, помог Пушкину четко определить свои нравственные ориентиры в новой ситуации новых отношений с самодержавной властью. Поверив царю, ответив на рукопожатие, не из страха, но по совести отказавшись от бунта и гордого противостояния, он, тем не менее, усердным рабом царя стать никогда бы не смог. Если и были у Николая I претензии на то, чтобы стать главным и единственным ориентиром жизни и творчества первого поэта Российской империи, то, конечно, они были утопичны: поэт, уже написавший «Пророка», опричником быть не мог и до самого конца своей жизни, говоря евангельскими словами, «отдавал Богу Богово, а кесарю кесарево».
* * *Подчеркнем еще раз: очень маловероятно, что Лермонтову был известен текст этого пушкинского стихотворения, тем не менее, осмысляя отношения поэта и трона, уже будучи в опале, т. е. после столкновения с царем, Лермонтов, как и Пушкин, обращается к эпохе Ивана Грозного, чтобы в своей поэме «Песнь про царя…» воссоздать модель мира, где Божья воля заменена волей самодержца.
Как и в пушкинском стихотворении «Какая ночь! Мороз трескучий…», в поэме Лермонтова действует влюбленный опричник.
В первой части поэмы в сцене пира отношения опричников с государем выстроены так, что проявляется главная идея самой опричнины: ее суть в том, что опричник движим и одушевлен только волей царя, опричник есть ее прямое отражение: когда царь пирует «во славу Божию», веселье должно быть законом для всех, даже просто опущенная голова Кирибеевича, полностью погруженного в свою печаль, расценивается не иначе, как прямое преступление против самодержца, т. е. как измена и предательство; гнев царя может показаться неадекватным ситуации, угроза прямой расправы с «задумавшимся» чувствуется в словах царя:
Когда всходит месяц – звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает…
Неверность государю, измена – самое страшное государственное преступление; надо прочувствовать, что именно поэтому даже просто уход в себя запрещен, как бегство. За этим стоит главная идея опричнины, ставшая требованием полной слиянности воли «верного раба» с царской волей.
Важно, что преследовать Алену Дмитриевну Кирибеевич начинает только после того, как он получил обманом царское благословение. Сцену пира комментируют гусляры:
Ох ты гой-еси, Иван Васильевич!
Обманул тебя лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому…
«Народишко» земли русской, по замыслу царя Ивана, должен был в опричном войске видеть воплощенную царскую волю. Поэтому-то Кирибеевич может «напасть» на Алену Дмитриевну, только заручившись царским благословением, обманом добытым,
Действия опричника, оскорбившие купца Степана Парамоновича, оказываются как бы санкционированными самим царем, хотя царь, подаривший свой «яхонтовый» перстень и жемчужное ожерелье в качестве дара сватовства, не имел в виду ничего противозаконного; в словах царского напутствия нам не отыскать никакого преступного замысла:
«… Как полюбишься – празднуй свадебку,
Не полюбишься – не прогневайся»
Итак, преступление, облаченное покровом царского благословения, совершается волею самого опричника.
Характеризуя конфликт поэмы, нужно понимать, что поверх фабулы незаконной любви к замужней женщине, т. е. классического «любовного треугольника», развивается и разворачивается, захватывая все пространство поэмы, сюжет взаимоотношений самодержавной власти с народом. С этой точки зрения очень важно осмыслить то, как объясняется со своей возлюбленной сам Кирибеевич.
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной…»
Испужалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
Недаром Алена Дмитриевна «испужалась пуще прежнего», после того как поняла, что является предметом домогательств любимого царского опричника. Согласно принципу управления, введенному царем Иваном Грозным, именно Кирибеевич – один из тех, в чьих действиях Русь должна видеть воплощение воли самого царя – «земного бога». Итак, ведомый страстью, на глазах всего народа обнимает и «цалует» чужую жену не кто иной, как представитель царской воли. Беззаконное, с точки зрения христианского народа, деяние совершается от имени царя. Даже «вор» и «душегуб лесной» менее ужасны, чем Кирибеевич: нарушая закон Божий, они нарушают и земной закон, поэтому борьба с ними и противостояние им однозначно оправданы и не могут иметь смысла государственного преступления, тогда как война, объявленная опричнику, поправшему Божью правду, ту «святую правду-матушку», которую выйдет защищать принародно, пред «святыми церквами», пред «белым Кремлем», пред грозным царем Калашников, эта война, с точки зрения самодержца, есть государственное преступление – выпад против царской власти.
Заручившись покровительством самого царя, Кирибеевич предлагает Алене Дмитриевне все богатства земли, обещает:
«… Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать…»
Мы видим, что система ценностей царского опричника очерчена только земными благами, причем то, что с его точки зрения является предметом зависти, с точки зрения принципов народной христианской этики есть бесчестие и позор, его-то как величайшее благо он и предложил честной жене Степана Парамоновича.
Поединок Кирибеевича с Калашниковым имеет смысл Суда Божьего. Лермонтову очень важно, что опричник еще до кулачного боя нравственно уничтожен Правдой купца, который обвиняет своего врага в том, что он попрал «господний закон»-. Впервые в жизни «лукавый раб» на поединке оказывается в положении, когда ему приходится нести личную ответственность за свои деяния. Уверенный в своей непобедимости (кстати, не в страхе ли всех перед грозным царем скрывается тайна непобедимости царского слуги?), он всегда был, как священным покровом, защищен званием царского опричника. Калашников же борется в поединке не с опричником, а с «бусурманским сыном», т. е. с врагом Христа, борется за свое достоинство, за свою честь, за свою веру, за свой брак, «пред святыми иконами» заключенный, за свой Дом и вообще за весь Божий миропорядок.
Хочется возразить Ю. М. Лотману, увидевшему проблему Востока в «Песне…» Лермонтова. Конечно, Кирибеевич, родственник Малюты Скуратова, имеет татарское «бусурманское» имя и происхождение. Сам себя, однако, он таковым не считает, что видно из его слов на пиру, когда он просит царя отпустить его в степи, где бы он погиб от руки бусурманина. С точки зрения Калашникова, Кирибеевич – «бусурманский сын», но не потому, что он по крови татарин, а потому, что ему невнятна Правда Христа, правда христианского брака, на которой держится «весь крещеный мир».