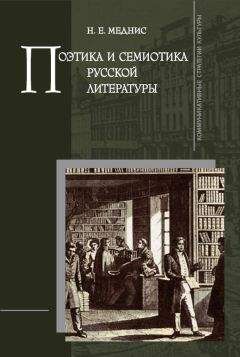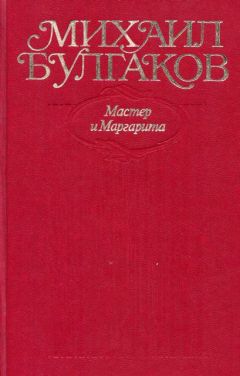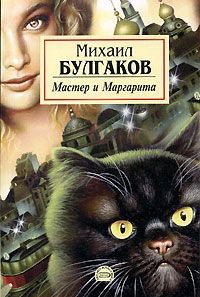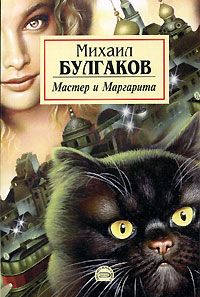Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
Пушкин – с негодованием относился к тому, что его личная жизнь становится предметом грязной игры и светских сплетен. У Пушкина было много врагов. Ошибочно было бы себе представлять мир, в котором вращался поэт последние годы как сборище театральных злодеев или вертеп преступников. Однако общество периода правления Николая было развращено его внутренней политикой. Вокруг себя Пушкин видел «отсутствие общественного мнения», «циничное презрение к мысли и достоинству человека». Поэт раздражал многих, не имевших достоинства или утративших его в различных компромиссах с совестью.
Против Пушкина возник настоящий светский заговор. У нас нет оснований считать, что Николай 1 был непосредственным участником этого заговора или даже сочувствовал ему. Однако царь несет прямую ответственность за другое – за создание в России атмосферы, при которой Пушкин не мог выжить, за то многолетнее унизительное положение, в котором находился поэт, за ту несвободу, которая капля за каплей отнимала жизнь у Пушкина.
Все поведение Пушкина прочитывается как накопившаяся боль человеческого достоинства, которое не было защищено ничем, кроме гордости и готовности умереть. Пушкин не стремился к смерти, он стремился к победе и свободе. Победу он получил, защитив свою честь, опозорив и заклеймив Дантеса и Геккерена, которые вынуждены были, окруженные общим презрением, покинуть Россию, а миг высокой свободы ему дала «смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя».
Пушкин умирал не побежденным, а победителем. Пушкин не жертва, Пушкин не искал смерти. Жизнь для него была Борьба – Свобода – Любовь.
Миг дуэли был его торжеством: он показал, что с ним «шутить накладно», что только жизнь и смерть по ценности соизмеримы, с его семейным очагом. Вместо легкого водевиля, в котором собирались участвовать светские сплетники и молодые шалопаи из «веселой банды» золотой молодежи, он вытащил их на сцену трагедии, при безжалостном свете которой сделалось очевидным их ничтожество пигмеев.
Так Ю. Лотман интерпретирует пушкинскую дуэль, конкретное историческое событие, вычленяя его героический смысл. Мы можем видеть, что логика этого трагического действия, мотивы поведения исторических персонажей легко соотносимы с логикой развития действия в лермонтовской поэме.
И воле опричников, служащих опорой трона, в поэме Лермонтова и воле «веселой банды золотой молодежи», развлекавшейся под сенью трона и уверенной в своей безнаказанности, ничто не противостояло, кроме воли народного героя Степана Калашникова и воли Поэта, и тот и другой защищали свое человеческое достоинство.
Лермонтов в своей модели сюжета поэмы гениально отделяет Победу героя от его Гибели, слившихся воедино в историческом сюжете дуэли и смерти Пушкина.
Нужна была дистанция в полтора века, чтобы, обобщив все данные исторической и филологической науки, Ю. Лотман мог так интерпретировать события дуэли. Факт безусловной моральной победы Пушкина над Дантесом теперь так же очевиден, как факт победы русских в Бородинском сражении. Точно так же сдача Москвы и ее пожар означали не триумф французов, а победу русских над французами в 1812 году.
Лермонтов был первый, кто понял смысл пушкинской гибели как нравственной победы и в то же время увидел, что оплатить эту победу можно было только смертью. Обреченность на нее Пушкина в условиях светской жизни раскрывается в поэме Лермонтова как закон, как приговор самого царя.
Образ Кирибеевича освобожден и очищен Лермонтовым от многих пороков и мерзких черт его исторического прототипа, который, по словам Пушкина, только «разыгрывал преданность и несчастную любовь», или «великую и возвышенную страсть», «тогда как он просто плут и подлец» (из перевода с французского знаменитого письма А. С. Пушкина барону Геккерену).
Если мы способны посмотреть на события, предшествовавшие дуэли Пушкина, глазами купца Степана Калашникова, то мы увидим, что рисунок поведения Дантеса повторяет логику поведения опричника Кирибеевича. Дантес, цинично публично преследовавший жену Пушкина, этот благовоспитанный, цивилизованный француз, с точки зрения народной христианской этики купца Калашникова такой же «бусурманский сын», как и молодой опричник. Ничего специфически восточного в образе Кирибеевича нет. «Ловля счастья и чинов» – вот смысл пребывания Дантеса в России, смысл его службы при дворе русского царя. Его система ценностей вполне сравнима с системой ценностей лермонтовского героя – опричника Кирибеевича.
И если до Пушкина «европейская культура мыслилась как эталон культуры вообще»[182], что было аксиомой русского просвещения с петровских времен, то после французского нашествия и гибели Пушкина на дуэли с Дантесом, который «не мог ценить… нашей славы», это западничество уже не могло определять русское культурное самосознание, поэтому, в частности, и оказалось возможным фигуру француза Дантеса и его роль в трагедии осмыслить через образ «молодого опричника».
То, что нам стало ясно только в конце двадцатого века, Лермонтов понял и отразил в своей поэме, которая моделирует трагически неизбежные конфликты в пространстве самодержавия (т. е. сакра-лизованной единоличной власти).
Современный философ М. Мамардашвили в одной из своих бесед заметил, что «Пушкин чуть ли не собственноручно, единолично хотел создать историю России… Например, утвердить традицию семьи как частного случая Дома, стен обжитой культуры, „малой родины“. Как автономного и неприкосновенного уклада, в который никто не может вмешиваться, ни царь, ни церковь, ни народ…»
Мамардашвили пишет: «Для меня очевидно, например, что он был выведен на дуэль не зряшней физической ревностью. Действительно „невольник чести“. Но чести не в ходячем полковом ее понимании, а чести как устоя бытия, как элемента чуть ли не космического осмысления порядка и меры. В ней он утверждал и защищал также и гражданское достоинство и социальный статус поэта, всякого человека мысли и воображения».[183]
Именно поэтому Пушкин имел право сказать, что «история народа принадлежит поэту».
Глава десятая
«Фаталист»: авторская позиция и метод ее извлечения[184]
Роман «Герой нашего времени» является наиболее изученным и прокомментированным произведением Лермонтова. Несмотря на это, есть чувство некоторой загадочности текста в силу того, что сознательным замыслом писателя было создание такой конструкции, при которой прямой авторский комментарий происходящим в романе событиям был бы сведен к минимуму. Слово в романе в основном предоставлено героям. О невозможности отождествить Печорина и автора Лермонтов предупреждает читателя еще в предисловии, иронизируя по поводу «проницательного» читателя: «Другие очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свои портрет…».
Где же пролегает черта, безусловно отделяющая «героев своего времени» от самого Лермонтова? Как ее отыскать?
Композиция новеллы «Фаталист» представляет собой цепь микросюжетов: пари Вулича, гибель Вулича, арест пьяного казака, беседа с Максимом Максимычем. Каждый из этих микросюжетов в кульминации имеет диалог. Все эти микросюжеты объединены в единое повествование фигурой Печорина – участника событий и рассказчика о них. Все эти события в сознании Печорина являются предметом раздумий на метафизическую тему о соотношении предопределения и свободы воли в жизни человека. Таким образом, внешне новелла выглядит как произведение на философическую тему, более того, для ее повествователя и героя, Григория Александровича Печорина, по существу, все рассказанное и является оправданием и объяснением его философского скептицизма.
Если автор имеет другой взгляд на мир, нежели его герой, но не желает прямо от первого лица высказываться, создавая ситуацию прямого диалога с героем, то, по-видимому, должен существовать некий конфликт между интерпретацией событий Печориным и возможным другим их пониманием, ускользающий от внимания самого рассказчика. Обнаружив этот конфликт, мы обнаружим и замысел Лермонтова.
«Фаталист» – последняя и заключительная новелла в романе. По-видимому, в ней должны найти разрешение все основные темы романа. Не раз исследователями отмечалось, что и в пятой новелле логика поведения Печорина остается той же, что и в других. Коротко эту логику можно описать так: движимый эгоистическим, но при этом почти всегда бескорыстным интересом (а интерес Печорина часто состоит только в том, чтобы заглянуть в «тайну бытия», испытать неведомое), он провоцирует Вулича на эксперимент с Судьбой. Как и в других новеллах романа «Герой нашего времени», Печорин и здесь управляет ситуацией, верно угадывая тайные мотивы, которые руководят людьми.