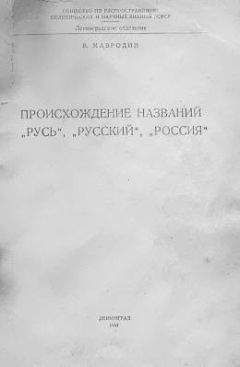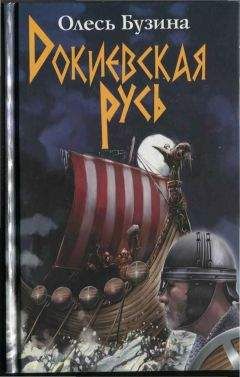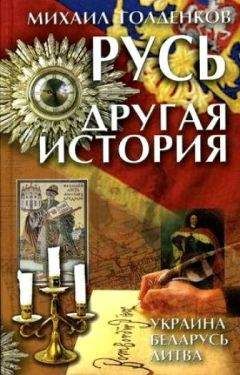Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
«“Чума”, – писал Великовский, – прежде всего философская притча писателя-моралиста со своими источниками “занимательности”, своей особой поэзией умственного поиска» (с. 114).
Эта поэзия, «поэзия умственного поиска», как и любая другая, имеет свою поэтику. Об этой поэтике мы и говорим.
Итак, о притчевости описания, о «правде мифа», что было одной из составляющих эстетики экзистенциализма.
Мандельштам писал в начале века: «Не раз в русском обществе бывали минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Одоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Новалиса. Так шестидесятники прочитали своего Бокля, и хотя обе стороны звезд с неба не хватали, и в этом случае идеальнейшего читателя найти было нельзя, акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на “Федре”, Гофман на “Серапионовых братьях”. Раскрылись ямбы Шенье и гомеровская “Илиада”»[111].
Так в России в семидесятые годы XX столетия был прочитан французский экзистенциализм.
Образ французского экзистенциализма, созданный в России, только отчасти совпадает с его сен-жерменским прообразом. Это был собирательный образ, одомашненный миф, приспособленный к нашей системе нравственных координат. Российский читатель искал и обретал в нем поведенческий кодекс, нравственный код.
Великовский и был, сам того не ведая, властителем дум нескольких поколений, тех, чей поведенческий кодекс слагался в основном из заветов «потерянного поколения» и французского экзистенциализма. Но это было скорее вторичным, побочным эффектом того, что он делал, лишь малой толикой истины, извлеченной из его книг.
Западная культура экзистенциализм давно поглотила, сделав его одной из своих духовных составляющих, накрепко зацементировав в общую кладку, под слоем других позднейших пластов растворив и претворив его в умственный уклад, душевный обиход.
Более уже не возвращался в западную культуру такой «последний детский смертельный серьез» постановки проклятых вопросов.
Дело не в сути, а в тоне. Легкий холодок иронии стал обязательным элементом душевного приличия.
Именно истовость, вернее неистовость нравственного поиска и сделали экзистенциализм столь органичным для российского духа.
Есть ряд очевидных причин этого очередного вдохновенного чтения в сердце французской культуры.
Французский экзистенциализм частично на русской мысли Достоевского и Шестова базируется, да и в самом художественном методе диалога идей он восходит равно и к французскому классическому роману, а еще более к Вольтеру, и к тому же Достоевскому, но главным для российского эха, для российского слуха во второй половине XX века оставался именно моралистический пафос экзистенциалистов.
И в формуле Великовского: «Культура искони была и пребудет духовным домогательством жизненного Смысла – согласия между предполагаемой правдой сущего и полагаемой правдой личности», – есть чисто российский аспект двойственного значения самого слова «правда», включающего в себя правду-истину и правду-справедливость, и неприемлемости одного без другого.
Одним из самых страшных потрясений XX века стало открытие малости, незначимости человеческих судеб. Это не тождественно теме маленьких людей большой русской литературы, это нечто ей прямо противоположное.
Целые поколения оказались в ситуации полного распада связей между личностью и ее судьбой. Для личности не оставалось больше возможностей влиять не только на ход вещей, но и на собственную биографию. Столь обязательное взаимодействие «посеешь характер – пожнешь судьбу» рухнуло. Чувство личности как таковое, неотменяемый постулат европейской культуры колеблется.
XX век отменял для личности, увлекаемой потоком мировых и чаще всего катастрофических событий, всякую возможность влиять на них в той или иной форме или сохранять на сей счет какие бы то ни было иллюзии.
Эту малость судеб по-своему и преодолевал французский экзистенциализм своим обращением к мифу, своей притчевостью, ибо надетая личина мифа или вечного сюжета укрупняет, поднимает человеческие черты до иного, вневременного масштаба.
Когда французский экзистенциализм обратился к мифу как к форме литературы Сопротивления, именно этот механизм «укрупнения» и был главным. Действия одного человека, не имеющие реальной силы влиять на исторические события, помноженные на миф, переведенные в плоскость мифа, помноженные на факт памяти, уже «укрупняют судьбы».
Это укрупнение и вычитывалось прежде всего и в России в «года глухие».
Беспафосный героизм «Чумы» в русской версии экзистенциалистского кодекса объединялся со стоицизмом Сизифа.
«Не-надежда служит лекарством от отчаяния» – одна эта формула, ставшая синонимом безопорного самостояния личности, и обрекала французский экзистенциализм в России на то, чтобы стать сводом моральных заповедей.
Уникальность Великовского в том, что он не писал о французском экзистенциализме, он последним экзистенциалистом был.
Последним российским французским экзистенциалистом.
Великовский был экзистенциалистом и по постановке проклятых вопросов и по методу их решения, и по стилю душевного бытия.
Сама истовость его описаний значима, в ней различим отзвук знаменитой фразы Камю: «Дать отчаянию имя – значит победить его»[112].
Великовский удивительно точен, говоря о своей манере письма как об «отчаянно последовательной проверке». Слово «отчаянно» здесь ключевое.
Присутствие ежеминутно здесь и сейчас в процессе письма пером преодолеваемого, одолеваемого экзистенциального отчаяния и придает тексту истинность, трагическое напряжение.
Только это исследовательское усилие, только это метафизическое приключение письма, только этот легкий след пера на белой беспросветности листа и отделяет душу от бездны отчаяния.
Это присутствие готовой поглотить бездны и сообщает тексту страстность и стремительность.
Слово не просто дело, оно последнее возможное дело, последняя и единственная попытка обретения смысла, на кончике пера всегда судьба, на тонкой нити строки повисает мир, весь мир.
О ком это? О Камю? О Рембо? О Малларме? Безусловно. Но прежде всего о Самарии Великовском.
Легкость, с которой он дает определения умонастроениям и находит «поэтические образы мысли», создает особую фактуру его текста, то предельно сближающуюся интонационно и синтаксически с философско-эстетическими штудиями Камю, то по своей чеканной эллиптичности спорящую со стихотворениями в прозе.
Это не мимикрия, не растворение, это часть системы видения, его оптики, призванной «испытать предельные допуски… метафизических приключений письма, а заодно и правоты подсказавшей их мысли» (о Малларме; с. 259).
«Героическое усилие, устремленное к ясности» – так писал современник о Малларме, но точнее о стиле Великовского не скажешь. Это движение, физически ощутимое, преодоление тяжести, взваленной на плечи.
Прием и у Великовского воистину «смыслоносен».
Плотность словесной ткани здесь словно тщится перейти в некое другое качество, стать твердью, твердой почвой под ногами, а стройность логики синонимична стойкости.
Его тексту присуща особая стать – в нем отсутствует статика.
Экспрессия рождается из спрессованности.
Фразы сжаты как смысловые пружины, они тоже проходят испытание допусков возможного.
И в этом суть. Максимальная ноша, гамбургский счет.
Перегруженный сверх всех пределов и смысловых и синтаксических, но не клонящийся, не теряющий своей стройности абзац сам становится метафорой или воплощением трагического стоицизма, стояния вопреки, или, если воспользоваться образным рядом самого Великовского, каждый абзац в его тексте – в идеале Атлант.
Образ Атланта точен и не надуман, ибо главное в этом метафизическом странствии «на край ночи» то, что оно предпринимается во имя всех.
Это и связывает поэзию прóклятых поэтов и прозу французских экзистенциалистов.
Потому логично и обращение Великовского к стихотворениям в прозе, к тем и фактически только к тем периодам литературы, когда «в писательстве усматривали… добывание смысла жизни – залога душевного спасения посреди обступающей отовсюду бессмыслицы. При такой нацеленности умов слово видится подлинно делом – делом самым что ни на есть наиважнейшим, насущным, превыше всех прочих дел… “Культуру избирали как постриг”» (с. 254–255).