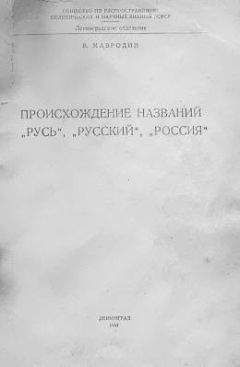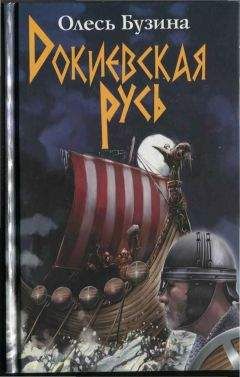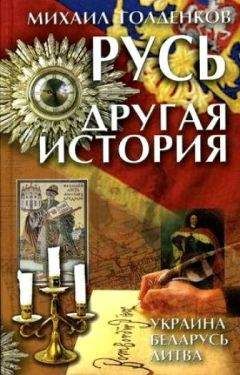Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Не протекало элюаровское восстановление заветов гражданственности, а в памяти французов это прежде всего заветы Гюго, и как простой возврат через головы непосредственных предшественников к давним классическим навыкам мастерства.
Элюар дерзко обогащал его образотворческими находками в русле исканий, проложенном Малларме, «прóклятыми», особенно Рембо и аполлинеровским «авангардом». Сугубо лабораторные крайности своей работы с языком в молодые годы Элюар по мере становления смягчал и убирал, однако всегда, вплоть до поздних лет, неизменно дорожил отнюдь не исключавшей преемства изобретательной поисковостью.
И столь же верным на протяжении всего пути оставался он природе своего дара – дара исповедального певца нежности, потомка Нерваля, Бодлера, Верлена, Аполлинера. Подобно тому как братство с единомышленниками было для Элюара увенчанием любовного союза двоих, мужчины и женщины, так и граждански страстная лирика, по обыкновению во Франции громовая, явила себя у него сердечным признанием в самом заветном.
Самобытность Элюара – в нерасторжимом сплаве поис кового письма, гражданского благородства, задушевной исповедальности.
Но в культуре как раз неповторимое и есть залог общезначимости. И оттого это элюаровское триединство – одно из поистине осевых событий в судьбах лирического слова Франции.
Наталья Стрижевская
Последний экзистенциалист
О поэтике Самария Великовского
О Самарии Великовском не пишут академические статьи. Не получается. Рассыпаются концепции. Не складывается контекст. Всегда он остается стоять в стороне. Один. В черном свитере. С неизменной трубкой. Мыслитель и стоик. Последний экзистенциалист.
Ни предтеч, ни эпигонов, ни подражателей, ибо, как писала Марина Цветаева, «…единственный не бывает первым. Первый, это ведь степень, последняя ступень лестницы, первая ступень которой – последний. Первый – условность, зависимость, в линии. Единственный – вне. У неповторимого нет второго»[107].
Великовский был единственным.
И свою единственность сознавал. Не как избранничество, а как печальную данность и нравственный долг, ибо дар для него и был долг, подлежащий оплате. Книгой. Судьбой. Собой.
Десять лет спустя после смерти Великовского выход его новой, никогда им не виденной, книги «Умозрение и словесность»[108] эту единственность подтвердил и утвердил. И сегодня каждое новое переиздание его работ лишь ярче высвечивает одиночество его литературного бытия.
Опыт Великовского, – а все написанное им лучше всего укладывается именно в это старинное определение «опыт о мире», – его опыт оказался для отечественной словесности непривычен настолько, что остался фактически не прочитанным, во всяком случае не прочитанным адекватно, ибо на отсутствие читателей Великовский посетовать никак не мог, более того, его можно было бы причислить к властителям дум, не будь сие звание столь вопиюще чуждым его душевному словарю.
Великовский «стоит в стороне» не только в русской словесности, но и в русском умозрении, и среди современников его просто не с кем сравнить. Пожалуй, единственное приходящее на ум имя – Мераб Мамардашвили, но это сходство скорее величин и вершин, чем голосов.
В каталогах библиотек книги Великовского числятся в разделе литературоведения по темам «французский экзистенциализм» и «французская поэзия», и это их единственное реальное жанровое определение, существующее на сегодняшний день.
Великовский сам создал жанр своих работ, на французский лад выстроенный, на российский взвихренный, по-французски сложно-стильный, весь стилевой игрой пронизанный, по-российски пограничный, синтетический, неопределимый, выламывающийся из всех жанров, ни в один не вписывающийся и все превосходящий, сам он определял его как «…эссе, располагающееся на стыке собственно литературоведения, социальной психологии, истории философии и еще чего-то трудноуловимого, что условно решился бы назвать исповедальным со-размышлением» (с. 10).
Но в книгах Великовского есть и другие определения, и хотя это и наиболее емкое, оно далеко не исчерпывающее.
Великовский всю жизнь писал о Камю. Камю был не просто его неизменным собеседником, его нравственным камертоном, он был его alter ego, и трудно отделаться от ощущения, что говоря об эссеистике Камю, он говорит о себе: «В работах, посвященных своим собратьям по перу и художественному творчеству вообще, Камю еще больше, чем в других своих трудах, выглядит мыслителем-эссеистом с тем редко встречающимся за пределами Франции обликом, какой складывался там веками от Монтеня до Алена. Среди философствующих эстетиков германской выучки он слишком писатель, среди высказывающихся об искусстве писателей – слишком философ. Он лишен вкуса к остраненным ученым исследованиям, для него анализ материала не самодостаточен, а служебен и насквозь личностен: по преимуществу это самоанализ, когда опосредованно уясняются собственные устремления. С другой стороны, Камю не довольствуется проницательными, остроумными, но дробными и разрозненными высказываниями: ему важно включить их в стройную вереницу посылок, доводов и заключений, вместе дающих нечто тщательно продуманное и подогнанное во всех звеньях.
…Отсюда – биографически и логически отправной взгляд для Камю на творчество прежде всего со стороны самого творца, который берется, впрочем, отнюдь не изнутри, не в психологическом, а, скорее, в онтологическом разрезе» (с. 148).
Если заменить в приведенной выше цитате «Камю» на «Великовский», характеристика будет на первый взгляд абсолютно точной, хотя на самом деле лишь затемняющей суть.
«То, что поэт пишет о собратьях по перу всегда является его метафизическим автопортретом», – утверждал Бродский. Мне возразят: «Великовский не был поэтом». Был, – утверждаю и настаиваю, – затем и пишу, чтобы сие утверждение отстоять.
О доле метафизического автопортрета в портретах Великовского, о соотнесении и сочетании того и другого в его книгах разговор еще впереди, но и поверхностному наблюдателю ясно, что ни в границы литературоведения, ни в границы философской эссеистики книги Великовского не укладываются.
Никоим образом не был затронут он и просветительством того особого толка, что был детищем нашего невежества, хотя сделал для истинного просвещения больше кого бы то ни было.
Он «слишком писатель».
Великовский не писал о французской литературе, он писал французской литературой, она была его чернилами.
Мераб Мамардашвили говорил своим студентам: «Я вместе с вами размышляю не о Прусте, я Прустом думаю о чем-то». Так и Великовский Камю, Рембо или Бодлером «думает о чем-то».
Задаваться вопросом, почему именно такой материал Великовский выбрал для создания труда всей своей жизни столь же бессмысленно, как спрашивать поэта, почему он не написал свою книгу прозой, а прозаика, почему он не написал вместо романа поэму. Такова была природа его дара.
В литературе, как и в истории, нет сослагательного наклонения. Произведение существует таким, каким оно существует. В данном обличии. Точка. Однако задуматься о том, что стоит за этим выбором материала, весьма поучительно.
Отбросим сразу, как малозначимые, любые ссылки на обстоятельства места и безвременья, извечные российские обстоятельства, любые предположения о том, что Великовский, подобно другим своим сверстникам, «ушел в литературоведение», ибо не имел возможности быть философом.
Да, в России добрых три четверти века не было места «чистым философам», но и после фактического исчезновения цензуры Великовский продолжал писать о том же и так же.
И сегодня его книги не несут отпечатка времени, достаточно перелистать его «Грани “несчастного сознания”»[109] или «Умозрение и словесность», чтобы убедиться в этом. Быть может, они лишь стали более прозрачными для широкой публики, проступила стройность логики не замутненная избыточной новизной материала.
Нет, объяснения придется искать в складе дара, в самой природе таланта, «редко встречающейся» не столько за пределами Франции, сколько за пределами стиха.
«Культура искони была и пребудет духовным домогательством жизненного Смысла – согласия между предполагаемой правдой сущего и полагаемой правдой личности, – писал Великовский. – Из века в век возобновляется искание возможностей такой встречи: чаяние, сомнение, предвосхищение, обретение, разочарование, утверждение, привнесение» (с. 62).