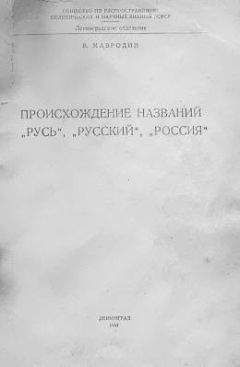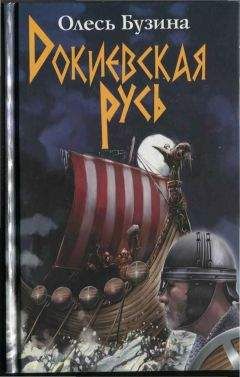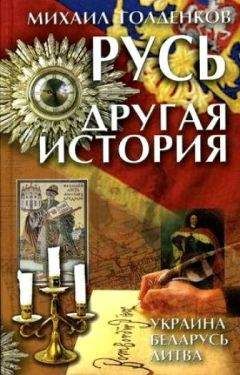Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Несть числа нашим дорогам, и нет у нас ни приюта, ни крова. К влаге святой припадаем смертных сухими устами. Вы, омывающие трупы в утробных водах утра, – земля покуда в тер новых путах войны – омойте также лицо живущих; омойте, Лив ни! омойте скорбные лица гневных, омойте нежные лица гневных… ибо узка их дорога и нет у них ни приюта, ни крова.
………………………………………………………………
Смойте медлительность и колебанья с путей деянья, смой те медлительность и приличья с путей познанья. Смывайте, Ли вни! смывайте бельма с глаз благовоспитанных, благополучных, с глаз благоразумных и благонадежных, с глаз благородных и одаренных; смойте завесу и с глаз поэта, и с глаз покровителя, и с глаз праведника и правителя… с глаз всех медлительных, свято блюдущих приличия.
Смывайте, Ливни, прочь благолепие с лиц Благодетелей и благоденствие с Деятелей и сор суесловья и красноречья с уст публичных. Омойте, Ливни, руки судей и законников, и руки бабок повивальных, и руки, саван ткущие покойнику, омойте руки слепого, зрячие, омойте руки калеки, кряжистые, и грязную руку, воздетую над челом человечества, доныне тянущуюся к хлысту и уздечке… при благолепии своих Благодетелей, при благоденствии своих Деятелей.
Сен-Жон Перс. Рисунок Пьетро Лаззари. 1949
Омойте, Ливни! слова великие в сердцах людских: омойте вечные слова человеческие, омойте вещие слова человеческие; строки пророческие, строфы стройные; святые молитвы, литые гимны. Омойте, Ливни, в сердцах человеческих всю радость речи, звон кантилены и вилланеллы и переливы элегий и рондо; соль парадокса и сладость довода; омойте долгие ночи мечтаний, омойте бессонные ночи познания, омойте лучший дар человеческий в душе человека, полной неутолимых желаний, ненасытной в деянии… омойте, Ливни! дела великие сердец людских.
«Дожди». Перевод Н. Стрижевской[106]Красной нитью через все книги Сен-Жон Перса тянется раздумье о предназначении Певца – хранителя скрижалей памяти об испытаниях и подвигах своих соплеменников, ясновидца глубин мироздания и поводыря человеческих душ, которому пристали и жречески торжественный пафос, и бытийный размах помыслов, и великолепие речей. Словарь Сен-Жон Перса изумляет своим узорчатым богатством, просторные вольные версеты – могучим накатом океанского прибоя, звукопись – органностью своих переливов.
И опять песнопенье в честь Моря.
Снова Певец обращает лицо к протяженности Вод.
………………………………………………………………
…Море Маммоны, Море Ваала, Море безветрия и Море шквала, море всех в мире широт и прозваний, Море, тревожность предначертаний, Море, загадочное прорицанье, Море, таинственное молчанье, и многоречивость, и красноречивость, и древних сказаний неистощимость!
Качаясь, как в зыбке, в тебе, зыбучем, взываем к тебе, неизбывное Море – изменчиво-мерное в своих ипостасях, неизменно-безмерное в пенности гулкой; многоликость единого, тождество разного, верность в коварстве, в дружбе предательство, прилив и отлив, терпеливость и гнев, непреложность и ложь, и безбрежность, и нежность, прилив и отлив – взрыв!..
О Море, медлительная молниеносность, о лик, весь исхлестанный странным сверканьем! Зерцало изменчивых сновидений, томленье по ласкам заморского моря! Открытая рана во чреве земном – таинственный след неземного вторженья; сегодняшней ночи безмерная боль – и исцеление ночи грядущей; любовью омытый жилища порог и кровавой резни богомерзкое место!
……………………………………………………………………
О многомерная противоречивость, источник раздоров, пристанище ласки, умеренность, вздорность, неистовство, благостность, законопослушность, свирепая ярость, разумность и бред, и еще – о, еще ты какое, скажи нам, поведай, о непредсказуемое!
Бесплотное ты и до дрожи реальное, непримиримое, неприручимое, неодолимое, необоримое, необитаемое и обжитое, и еще и еще ты какое, подскажи, несказанное! Неуловимое, непостижимое, непререкаемое, безупречное, а еще ты такое, каким перед нами предстало сейчас – о простодушие Солнцестояния, о Море, волшебный напиток Волхвов!..
«Створы». Перевод М. ВаксмахераНе страшась прослыть чересчур витийственным, Сен-Жон Перс всем своим державным письмом священнодействовал в честь природного круговорота и людских свершений.
Торжественной роскошью своих песнопений-легенд он едва ли не разительнее всех других лириков Франции XX в. отличен от тихо исповедующегося Элюара. И все же, вслушиваясь вдумчиво в столь разные голоса, мало-помалу, вопреки всем несходствам, улавливаешь родственность глубинную, корневую. Она прежде всего в том, как оба мастера понимали свое дело. Нет переклички очевидной, но есть она по существу между элюаровским подходом к слову как непрестанной выработке стоустой человеческой «истины, применимой в жизни», и мыслями о назначении поэзии, вы сказанными в 1960 г. Сен-Жон Персом: «Верная своему долгу, – а служение ее в том, чтобы все глубже проникать в человеческую тайну, – поэзия наших дней добровольно отдается делу, которое сулит в конце концов человечеству полное обретение им самого себя. В этой поэзии нет ничего от пифического прорицательства. Как нет в ней ничего от чистого эстетства. Она отнюдь не ремесло бальзамирования или украшательства. Она не взращивает жемчужин куль туры в раковинах, не торгует подделками и пестрыми яр лыками; не может довольствоваться она и самыми изощренными музыкальными празднествами. На своих дорогах она встречается, вступает в высшие бракосочетания с красотой, но для нее это не единственная пища, не цель. Она не позволяет себе отрывать искусство от жизни и любовь от познания; она – действие, она – страсть, она – мощь, она – вечное обновление, раздвигающее пределы достигнутого. Очаг ее – любовь, ее закон – непокорство, место ее – повсюду, в предвосхищении. Никогда не захочет она впасть в безразличие и отрешенность… В гуще века ей предназначено воззвать к уделу человеческому, достойному в большей степени, чем сейчас, исконной человеческой природы. А это значит – еще отважнее вливать соборную душу множества людей в круговращение токов мировой духовной энергии. Рядом с энергией водородной достаточен ли поэту для его задач светильник скудельный? – Да, достаточен, коль скоро о скудели хранит память человек».
И в заключение
Под занавес книги стоит вернуться к ее зачину. И на исходе всего этого мысленного путешествия по дорогам французской лирики XIX–XX вв. попробовать точнее, предметнее расположить на ее карте тот узловой их перекресток, что отмечен именем Поля Элюара. Элюар находился на острие открытия заново своими собратьями по перу во Франции долга ответственного служения справедливости на земле, человеческому достоинству, родине, освободительным надеждам, народной правде. Заслуги такого включения лирики в защиту высоких нравственных ценностей он разделял с работавшими одновременно с ним мастерами разных поколений, от старших его по возрасту Сюпервьеля, Жува, Сен-Жон Перса до младших – Десноса, Шара, Френо, Гильвика, многих других. Каждый из них на свой особый лад отозвался с честью на запрос истории в грозный ее час. И в мощи этого разноголосого отклика сказались не только их собственные добрая воля и труд, а подспудно и то жизненное оздоровление, каким французская поэзия обязана в XX столетии в первую очередь Аполлинеру и его сверстникам.
Наряду с Арагоном возглавив возрождение в своей стране, после немалого перерыва, лирики впрямую гражданской, Элюар не довольствовался, как это бывало в прошлом, негодующим бичеванием и вольнолюбивой проповедью. Он постарался вложить в свое слово деятельный порыв к коренному переустройству жизни плечом к плечу с товарищами по революционным упованиям, по совместному делу. Элюару было дано в их содружестве пережить и по-своему, с проникновенной искренностью высказать обретенную им веру в то, что возможно преодолеть мучительный бодлеровский «разлад мечты и действия»; так или иначе определявший после Бодлера строй самосознания едва ли не всех лириков Франции.
Не протекало элюаровское восстановление заветов гражданственности, а в памяти французов это прежде всего заветы Гюго, и как простой возврат через головы непосредственных предшественников к давним классическим навыкам мастерства.
Элюар дерзко обогащал его образотворческими находками в русле исканий, проложенном Малларме, «прóклятыми», особенно Рембо и аполлинеровским «авангардом». Сугубо лабораторные крайности своей работы с языком в молодые годы Элюар по мере становления смягчал и убирал, однако всегда, вплоть до поздних лет, неизменно дорожил отнюдь не исключавшей преемства изобретательной поисковостью.