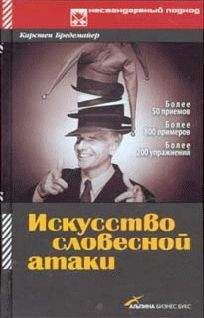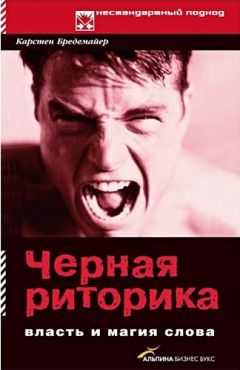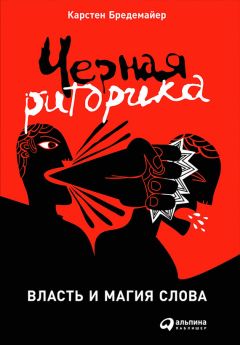Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
249
Набоков, заставляющий своего героя Найта умереть от сердечного приступа, следует той же идее. И на протяжении всего романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» heart (сердце) соотносится с art (искусство).
250
Ср. акустическую алхимию А. Арто с превращением mot в or: М. Ямпольский. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993. С. 46–51. Вяч. Иванов о Малларме: «Терпеливый алхимик темных словесных составов, в которых уже сверкало искомое золото, Малларме мечтал рассказать повесть мира, подобно Силену Виргилиевой эклоги («подобно Орфею» – говорил он сам!), языком «чистой» поэзии, освобождающим пленные гармонии, соединяющим разделенное, впервые осуществляющим в завершительном слове все дотоле незавершенное и неназванное, – древние сказали бы: языком богов» (III, 652).
251
В. В. Розанов. Сахарна. М., 2001. С. 55.
252
Н. Берковский. Текущая литература. Статьи критические и теоретические. М., 1930. С. 173. Ср: «Валери отделил поэтическое слово от обыденного, придумав остроумную притчу (речь в этой притче идет, правда, о старых временах, когда деньги еще имели золотое обеспечение): слово обыденного языка, пишет он, подобно мелкой разменной монете или бумажным банкнотам в том отношении, что оно не обладает стоимостью, которую символизирует; напротив, поэтическое слово, как знаменитый старый золотой, имевший хождение до первой мировой войны, само обладает стоимостью, которую символизирует. То есть поэтическое слово является не просто указанием на нечто иное, но, подобно золотой монете, оно есть то, что представляет» (Г. – Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 118).
253
«У Анри де Ренье, – писал Анненский, – недавно констатировали такие точно тики-слова or и mort». Под тиками-словами Анненский понимает марку «индивидуального колорита» и стиля (Иннокентий Анненский. Книги отражений. М., 1979. С. 354). На эту марку индивидуального стиля указал Реми де Гурмон: «Анри де Ренье – поэт меланхолии и блеска. Два слова, которые чаще всего звучат в его стихах, – or и mort. У него есть поэмы, в которых эта царственная и осенняя рифма повторяется с настойчивостью, производящей жуткое впечатление» [M. de Régnier est un poète mélancolique et somptueux: les deux mots qui éclatent le plus souvent dans ses vers sont les mots or et mort, et il est des poèmes où revient jusqu'à faire peur l'insistance de cette rime automnale et royale] (Реми де Гурмон. Книга масок. Томск, 1996. С. 21).
254
Георгий Иванов. Собрание сочинений в трех томах. М., 1994. Т. I. С. 181. Еще один его пример:
Мы дышим предчувствием снега и первых морозов,
Осенней листвы золотая колышется пена,
А небо пустынно, и запад томительно розов,
Как нежные губы, что тронуты краской Дорэна. (Там же. С. 490)
В брюсовском «Мадригале» (1921):
Имя твое из золота,
Милое имя – Дора. (III, 84)
И последний пример из Маяковского, комментирующего свое стихотворение: «Когда наш пароход покидал гавань, навстречу нам шел пароход, и на нем золотыми буквами, освещавшимися солнцем, два слова: «Теодор Нетте", – это была моя вторая встреча с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом» (VII, 502). Не забудем также стихотворение «Одесса» (1942) Семена Кирсанова: «Город-воля, / штормовое лето, / порт, / где бочек / крупное лото, / где встречался / с «Теодором Нетте» / Маяковский / в рейде золотом» (Семен Кирсанов. Стихотворения и поэмы. СПб., 2006. С. 165).
255
У Цветаевой, исполнявшей всегда больше обещанного, «золотое слово» равно кристаллическим нотам музыкальной грамоты ее детства – «до-ре», выросших до размера Книги, Библии Гюстава Доре: «Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере будет музыкантша». Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до – ре…» Это до – ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой – «кингой», как я говорила, пока что только ее, «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца – жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая – слезы. Это до-ре (Доре), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из Sans Famille…» (II, 172).
256
Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 256.
257
Омри Ронен. Из города Энн. Сборник эссе. СПб., 2005.
258
Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 112–113.
259
Там же. С. 148–149.
260
Марина Цветаева, Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М., 2004. С. 233.
261
P. Ricoeur. La metaphore vive. P., 1975. Р. 391.
262
Г. В. Ф. Гегель. Наука логики. М., 1971. Т. II. С. 39.
263
Умберто Эко. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., 2005.
264
См.: Андре Бретон. Антология черного юмора. М., 1999.
265
Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету. М., 1976. С. 35 (пер. Н. Любимова).
266
Эко странным образом ничего не говорит об этой простейшей интерпретации (мы не будем настаивать на том, что она базовая). Из всех хитроумностей текста драмы читатель (и уж тем более такой читатель, как Эко!) непременно должен заметить крошечную деталь: пятикратный повтор слова «маленький» (petit). Этот эпитет принадлежит Раулю, даже когда он скрыт под маской Пироги (у Пироги маленькая рука, но не сама фигура, надо думать, имеющая форму вытянутой вверх лодки). Путаница у Алле изначально задана небольшой странностью супружеской пары, где жена – почти великанша, а муж гораздо меньше ростом. И маскарад призван скрыть эту разницу.
Постойте, скажет читатель, о котором Эко только мечтает, но ведь Эко – гениальный пародист, мастер детективной интриги, прославившийся романом о свойствах Смеха. Он знает о вашем простейшем истолковании! Почему? Да потому что это розыгрыш, его игра с читателем (уже его собственной работы о читателе), а понимать его интерпретацию Алле можно только вкупе с его романистикой. Эко рассказывает в примечании, что в 1976 году три его студента написали пробную интерпретацию «Парижской драмы» и назвали эту работу «Как кастрировать себя бритвой Оккама» (Умберто Эко. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., 2005. С. 448). То есть юным оппонентам Эко уже был предложен простой вариант чтения текста Алле под оккамовским девизом: «Простейшее объяснение – наилучшее».
Роман Умберто Эко «Маятник Фуко» (1988) устроен именно по такому принципу: после невероятных «наворотов» сюжета, сложной казуистики предположений при простом, ясном и прозрачном прочтении загадочно-грозный «План тамплиеров» оказывается сущей малостью – купеческой квитанцией. Таким образом, глава восьмая книги Умберто Эко под длинным наукообразным названием «Lector in fabula: прагматическая стратегия в метанарративном тексте» предстанет тем самым сложнейшим, кастрационным вариантом прочтения (ироничным и детективным), а значит, явится просто-напросто текстом-зародышем. И только после девятилетнего развития ребенок родится на свет шестисотстраничной художественной прозой и станет кратко именоваться «Маятником Фуко», романом об истории ошибок и прозрений, о сложных и простых, хитроумных и пародийных способах письма и чтения. Не будем забывать, что эпиграф из Алле, поставленный Эко к «Lector in fabula», гласит: «Логика заведет куда угодно, если только сможешь из нее выйти».
267
Томас Венцлова. Статьи о Бродском. М., 2005.
268
Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 140.
269
Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 81.
270
Ср. мотив повешенности в богоискательской «Исповеди» Льва Толстого: «Давно уже рассказана восточная басня про спутника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибает; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их» (XI, 17). Эта притча – важнейший источник для самых различных интерпретаций в Серебряном веке. Мы ограничимся лишь одним замечанием относительно Введенского. Для Толстого время как смена дня и ночи (света и тьмы) олицетворяется мельканием черной и белой мыши. В «Серой тетради» не время мелькает как мышь, а сама мышь мелькает, мерцает как время, но это уже другое время, позволяющее избежать смерти и в противоборстве (а не равнодушной смене) света и тьмы, хаоса и космоса упорядочить движение.