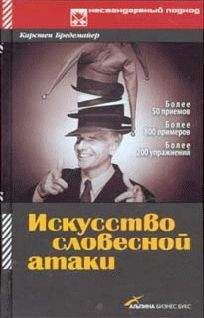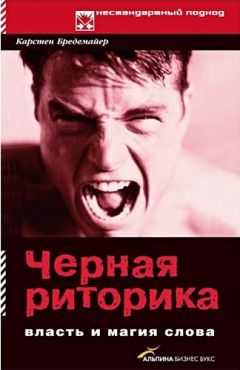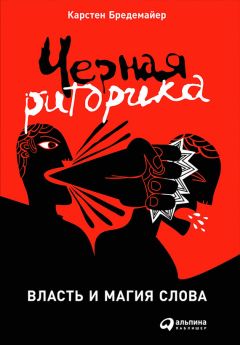Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
224
M. Heidegger. Unterwegs zur Sprache. Tubingen, 1965. S. 216.
225
Характерна оговорка Ленина в одной из статей 1906 года: «Смотрите, господа кадеты, (…) придет день и не далекий день, когда народ помянет вас «насмешкой горькою обманутого сына над изболтавшимся отцом»» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1976. Т. XIII. С. 88). «Промотать» превратилось именно в говорить, болтать.
226
П. Н. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т. I, 1924–1925 гг. Paris, 1991. С. 130–131.
227
А. Я. Сергеев. Портреты // «Новое литературное обозрение», 1995. № 15. С. 324.
228
Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ – победно и влюбленно —
В снежной мгле поет рожок…
Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор… (III, 80)
229
По воспоминаниям Лидии Гинзбург, Шкловский хотел изучать литературное произведение так, как будто это автомобиль и его можно разобрать и собрать снова. Человека же, пишущего большую вещь, он сравнивал с шофером 300-сильной машины, которая как будто сама тащит автора.
230
Из стихотворения «Поэт рабочий» (1918):
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник, который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы. (II, 19)
231
Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 62. Опыт движения, радикально меняющий классическую картину мира, подытожен Брюсовым в стихотворении «Опыт относительности» (1922):
Первозданные оси сдвинуты
Во вселенной. Слушай: скрипят!
Что наш разум зубчатый? – лавину ты
Не сдержишь, ограды крепя.
Для фараоновых радужных лотосов
Петлицы ли фрака узки,
Где вот-вот адамант Leges motus’ов
Ньютона – разлетится в куски. (III, 136)
232
Тихон Чурилин чутко уловил единство этих двух мандельштамовских текстов в пародийной строке «И золотой, о злой я мот…» стихотворения «Конец клерка», которое Гумилев считал лучшим в его сб. «Весна после смерти» (1915) (Николай Гумилев. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 193–194).
233
Эта строфа была во всех публикациях и вычеркнута Мандельштамом только из авторского экземпляра «Стихотворений» 1928 года.
234
Лившиц иронизировал: «…Она [Ксана Пуни] плескалась в ванне, как нереида, давая повод любителю классических сравнений мысленно приращивать к ней, вместо средневекового шлейфа, эйдологически выверенный рыбий хвост» (Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 523).
235
Анна Ахматова. Десятые годы. М., 1989. С. 94.
236
День субботний наступает с появлением первой звезды – star. Это – star^K Шутка о «суперстар» не сегодня родилась. См., например, «Звездный ужас» Гумилева.
237
Мишель Монтень. Опыты. Книга третья. М., 1979. С. 19.
238
У Лескова в «Воительнице»: «Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с люди, не то с како начинается…» (I, 163). Пример кардинального развоплощения имени в «Записных книжках» Ильфа: «В коммунальной квартире жил повар Захарыч. Когда он напивался, то постоянно приставал к своей жене:
«Я повар! А ты кто? Ты никто». Жена начинала плакать и говорила: «Нет, я кто! Нет, я кто!»». У самого Захарыча нет ни имени, ни фамилии. Но главное для него не имя, а род занятий, затмевающий всякое имя и звание («Я повар!»). Жена для него – никто, пустое место, и ее отчаянная попытка обрести существование не может вернуть даже имени – «Нет, я кто!» Это вопрос, ставший ответом и отрицательным утверждением своего безымянного бытия.
239
Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С. 440. Текучесть верленовского облика тонко почувствовал еще Коневской: «Это была необычайная личность, в которой всю жизнь как-то бок о бок уживались самыя больныя ткани обветшалой умственной культуры с первозданной детской свежестью новой и причастной вечному души. В его жизни как будто на равных правах чередовался живой человек со своей тенью. Безвольный, бессильный духом, коснеющий в болезненной порочности наравне с самыми развинченными парижскими невропатами, он в то же время, удалившись в тайники своей натуры кружился с роем мошек в золотой сети солнечных лучей, между легкими древесными ветвями, где-то на самом отдаленном горизонте жизни века. В своих воздушных грезах, стонах сладострастия, покаянных благоговениях или то в плутовском, то задушевном смехе он неотразимо напоминает столь смело постигнутыя Достоевским отверженныя души, и темныя, и чуткия, и низкия, и ясныя» (Иван Коневской. Стихи и проза. М., 1904. С. 175–176).
240
Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 98.
241
Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 437 (пер. М. Лозинского).
242
Цит. по: G. Poulet. Les metamorfoses du cercle. P., 1961. Р. XI–XII.
243
Андрей Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997. С. 423.
244
М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах. М.; Л., 1957. Т. VI. С. 365.
245
На языке комедии Маяковского «Клоп» Wassein имени выглядит так: «Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин?» (XI, 228). Как мандельштамовский старик, Присыпкин – не кто, а что, причем такое «что», которое уже ни в какие ворота не лезет, а не только в наименование («Ну, что это такое Присыпкин?»). Имя-недотрога: дотронешься, непременно какую-нибудь заразу подхватишь. Например – ничтожности существования. Время у вечности Присыпкин ворует песочными часами, где вместо песка – зыбучая струйка клопов. Прямо-таки прыскающий нелепостью своего вечного «присыпания», герой Маяковского лишен даже тени прямохождения и возможен только на четвереньках пребольно кусающихся вопросов: «На что? Куда? Кому?» Присыпкин никогда «в», а только лакейски и тупо «при» чем-нибудь. Он не явлен, а как-то подло-приплоден, подброшен к черному ходу; не есть, а стелится. Даже не болезнь, а смешная и унизительная в своем вековечном почесывании сыпь бессмыслицы.
246
Я. Э. Голосовкер. Засекреченный секрет. Томск, 1998. С. 144–145.
247
Здесь мы по параболе возвращаемся к Сократу, который, по его словам, был обязан жить философствуя и испытывая самого себя и других: «Итак, дело Сократа – философствование, – то есть εξετασιζ – выспрашивание, испытание, тщательная проверка, смотр, требование отчета – не только у других, но и у себя. (…) Как – среди существующего без всяких вопросов – возможно спрашивающее, мыслящее, понимающее и потому могущее заблуждаться, ошибаться в самом своем бытии существо. Если такое существо возможно, то только потому, что оно в самом существе своего бытия как-то не вполне есть, есть как-то вопросительно, в самом своем бытии оно есть вопрос о бытии. Оно не совпадает с собой: всегда уже существующее, оно одновременно и всегда еще только могущее существовать. Человек способен задавать вопросы потому, что он прежде всего сам есть вопрос» (А. В. Ахутин. Тяжба о бытии. М., 1997. С. 36–37).
248
«…Надо упомянуть еще незаконный вид остроты – игру слов, calembourg (…). Как острота насильственно подводит под одно понятие два очень различных реальных объекта, так игра слов, пользуясь случайностью, облекает в одно слово два различных понятия: контраст возникает тот же, но только гораздо бледнее и поверхностнее, ибо его источник не в существе вещей, а лишь в случайности наименования» (Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Минск, 1998. С. 170; пер. Ю. Айхенвальда). Как бы ни был популярен философ в начале века, русская поэзия осталась равнодушна к этой многообещающей мысли.
249
Набоков, заставляющий своего героя Найта умереть от сердечного приступа, следует той же идее. И на протяжении всего романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» heart (сердце) соотносится с art (искусство).
250
Ср. акустическую алхимию А. Арто с превращением mot в or: М. Ямпольский. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993. С. 46–51. Вяч. Иванов о Малларме: «Терпеливый алхимик темных словесных составов, в которых уже сверкало искомое золото, Малларме мечтал рассказать повесть мира, подобно Силену Виргилиевой эклоги («подобно Орфею» – говорил он сам!), языком «чистой» поэзии, освобождающим пленные гармонии, соединяющим разделенное, впервые осуществляющим в завершительном слове все дотоле незавершенное и неназванное, – древние сказали бы: языком богов» (III, 652).
251
В. В. Розанов. Сахарна. М., 2001. С. 55.