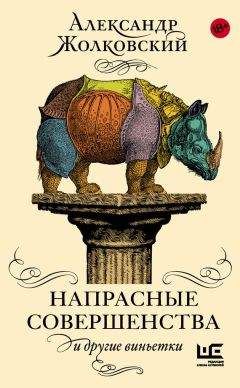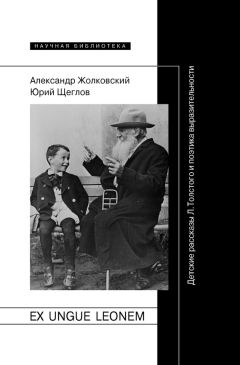Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?
Глупенькая Натали, так и не усвоившая за все эти годы, что Пушкин был страшным собственником в семейной жизни, и любые, даже легкие посягательства на жену свою, он считал непозволительными и принимал за оскорбление своей чести. И он снова взорвался.
21 ноября поэт написал первое (не отосланное) письмо к барону Геккерну. Резкое, полное вызывающих намеков и обвинений, оно просто обязано было повлечь за собою новую дуэль. Пушкин, придя к графу Соллогубу, сказал: «Послушайте… вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». «Он запер дверь и сказал: “Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте”. Тут он прочитал мне известное нам письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения».
Содержание письма было действительно резким. Вся желчь поэта, его гнев, его ненависть вылились в этом неотправленном письме. Не стесняясь в выражениях, Пушкин говорит нидерландскому посланнику о его недостойном и бесчестном поведении:
«Но вы, барон, Вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, истощенный лекарствами, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней: вы бормотали ей: “Верните мне моего сына”»…
С откровенным презрением говорит поэт о поведении Дантеса во время дуэльной истории и дает понять, что он уронил себя тем самым окончательно в глазах Натальи Николаевны: «Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном».
Затем Пушкин прямо обвиняет Геккерна в составлении анонимных писем. Письмо закапчивается страшной для Геккернов угрозой: «Поединка мне уже недостаточно…нет, и каков бы ни был его исход, <я не почту себя> достаточно отомщенным ни <смертью…> вашего сына, ни <его женитьбой, которая> совсем имела бы вид забавной <шутки> ни <наконец> письмом, которое я имею честь вам писать и список с которого сохраняю для моего <лич>ного употребления». Все в этом письме было чрезвычайно оскорбительным, и отсылка этого письма неизбежно привела бы к новой дуэли.
Нервный взрыв Пушкина был вполне понятен. Через два-три дня стало известно, что в светских толках и пересудах по поводу неожиданной помолвки это событие связывают с каким-то скандалом в семье Пушкина. Возник слух о том, что молодой человек ради спасения чести любимой женщины вынужден был просить руки ее сестры. Поступок молодого Геккерна оценивали как «подвиг высокого самоотвержения». Эта версия имела особенный успех у дам и барышень, которые склонны были видеть в молодом Геккерне романтического героя.
«Он пожертвовал собою, чтобы спасти ее честь», – записала в своем дневнике двадцатилетняя Мари Мердер и, восхищенная, добавила: «Если Дантесу не оставалось иного средства спасти репутацию той, которую он любил, то как же не сказать, что он поступил великодушно?!». Сохранилось письмо Геккерна графу Нессельроде, написанное уже после январской дуэли, в котором барон говорит как о всем известном факте о том, что его сын своей женитьбой «закабалил себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины».
Скорее всего, Геккерн-отец передавал эту историю во всех светских салонах. То же самое говорил Дантес в кавалергардских казармах. По словам уже известной Мари Мердер, Дантес говорил всем, что он «женился, чтобы спасти честь сестры жены от оскорбительной клеветы».
Эту версию повторяли во всех салонах – князей Барятинских, Белосельских, Трубецких, и даже в домах друзей поэта, Вяземских и Карамзиных. Дантесу удалось убедить в благородстве своих намерений даже такого искреннего почитателя Пушкина, каким был Александр Карамзин. Позднее сын историографа признавался брату: «Я… краснею теперь оттого, что был с ним в дружбе… Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига».
Новый взрыв гнева поэта почувствовали его близкие друзья. Снова вмешивается Жуковский и просит государя повлиять на поэта. На аудиенции, которая состоялась 23 ноября, царь берет с Пушкина обещание: не драться ни под каким предлогом, но если история с Дантесом возобновится, обратиться к нему. Даже Николай I не ожидал от поэта такой жгучей ревности, неугомонности во мщении и непримиримости к врагам. Так как аудиенция закончилась благополучно, надо думать, что Николай I проявил определенную гибкость в этом разговоре. В тот момент, когда Пушкин был готов на все, повеление императора не могло бы его остановить. Должно было быть сказано что-то такое, что как-то разрядило бы напряженность. По-видимому, царь заверил Пушкина, что репутация Натальи Николаевны безупречна в его глазах и в мнении общества и, следовательно, никакого серьезного повода для вызова не существует. Это, кстати, император мог сказать с полной убежденностью, так как и после дуэли писал брату, что жена поэта была во всем совершенно невинна. Если нечто подобное было сказано 23 ноября, то это было для Пушкина очень важно.
Дантес к этому времени заболел и не мог появляться в салонах. Все как будто успокоилось. Успокоился и Пушкин. В декабре 1836 года он пишет отцу: «Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый, и на четыре года моложе своей невесты. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья». Тон письма довольно спокойный. Трудно сопоставить его с теми резкими высказываниями, которые позволил себе Пушкин в письме к Геккерну-отцу. Видно, на самом деле поэт не испытывал особенной ненависти к Дантесу, понимая, что красавец-кавалергард не виноват в том, что нравится женщинам и что в него влюбляются многие, в том числе его жена и ее сестра.
Такие минуты успокоения и понимания реальности были редки. Посещение светских салонов с их постоянным шумом, сплетнями, флиртом, танцами, карточными играми влекло поэта. А там вновь он слышал пересуды о своей семейной жизни, о великой страсти Дантеса, о его романтическом поведении. «Недогадливые друзья» не только поддерживали Наталию Николаевну, но и осуждали Пушкина. А. И. Тургенев 19 декабря написал в дневнике: «Вечер у кн. Мещерский (Карамзиной). О Пушкине: все нападают на него за жену, я заступался».
Вяземские и Карамзины никак не могли понять, что Пушкина следовало оберегать от встреч с Дантесом. А твердое решение поэта не иметь никакого дела с домом Геккернов они считали нелепостью. Но самое худшее заключалось в том, что они вольно или невольно как бы поощряли Натали бороться с мужем за свободу поведения и таким образом разрушали пошатнувшееся согласие супругов. Например, Софи Карамзина поучала Наталию Николаевну настаивать на отмене строгих требований Пушкина к поведению жены, а впоследствии она же не простит ей «того легкомыслия, той непоследовательности, которые позволили ей поставить на карту прекрасную жизнь Пушкина».
К сожалению, нельзя выйти сухим из воды. Поэт на своей «шкуре» пожинал плоды светских сплетен, в которых он так же в свое время принимал участие. В письмах жене и друзьям он постоянно сообщает любовные новости:
«Красавец Безобразов, – сообщает он жене, – кружит здешние головки, причесанные а ля Нинон здешними парикмахерами. Князь Урусов влюблен в Машу Вяземскую (не говори отцу, станет беспокоиться). Другой Урусов женится на Бороздиной-соловейке».
А вот пример типичной светской сплетни: «Поэт Хомяков женится на Языковой, сестре поэта. Богатый жених, богатая невеста. Какие тебе московские сплетни передать? Что-то их много, да не вспомню. Что Москва говорит о Петербурге, так это умора. Например: есть у вас некто Савельев, кавалергард, прекрасный молодой человек, влюблен в Идалию Полетику и дал пощечину Гринвальду. Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази, как жалка Идалия!»
В 1834 году Пушкин сообщал жене: «Скоро по городу разнесутся толки с семейных ссорах Безобразова с молодою женою. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и до ножа…»