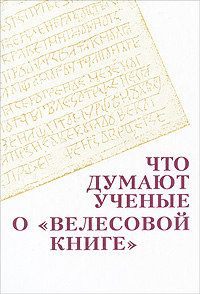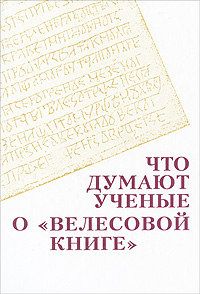Александр Мелихов - Былое и книги
Все бурлит и сверкает, сулит неслыханные перемены, невиданные мятежи. А Чехов ровно ничего не сулит, обращаясь к довольно-таки беспросветным (хотя и не ужасающим!) будням не слишком счастливых (хотя и не ужасающе несчастных!) людей. Которые, чтобы ощущать себя одинокими, достаточно возвышаются над своей средой, хотя и не настолько, чтобы сделаться героями и вождями.
Сегодня чем-то в этом роде себя ощущает большинство порядочных интеллигентных людей. Сегодня это норма. Но тогда!..
Слишком нормален – таков был распространенный приговор «декадентов», желающих строить жизнь по законам искусства. Недостаточно идеен, не зовет к справедливому социальному строю, считала «прогрессивная общественность». Не только мы с нашими кошмарами, но и весь западный мир должен был пережить ужасы войн и разочарования во всех пышных химерах, насмотреться на неслыханные перемены и невиданные мятежи – хотя бы у соседей (впрочем, хлебнули все), – чтобы оценить главное прозрение Чехова: нормальная, не слишком веселая будничная жизнь – это большее, на что мы можем рассчитывать.
Чехов с грустным состраданием и с потрясающей достоверностью изображал повседневную жизнь симпатичного, но не слишком решительного человека – и тот во всем мире платит ему любовью и благодарностью. Чехов, устранив из своего мироздания Пржевальских и Желябовых, устранив могучих и целеустремленных, удалил тем самым с глаз подальше все, что могло бы послужить укором слабым, напоминая им о том, что человек сильное и высокое создание. Слабому приятнее думать, что не лично он, а человек вообще слабое и одинокое существо, коему дал бы бог вынести хотя бы собственное существование, – и эта эстетизация бессилия, соединенная с дискредитацией силы, по-видимому, самое подходящее мироощущение для современного культурного человека.
Чехов обеспечивает ему почетную капитуляцию перед грозными вызовами жизни и потому останется любимцем интеллигенции всех стран и континентов до тех пор, покуда средний интеллигент не превратится либо в настоящего героя, уже не нуждающегося в красивом оправдании своей слабости, либо в героя Зощенко, не видящего в своем положении ровно ничего унизительного.
Марк Твен как зеркало русской революции
Суждения о природе смешного бывают до смешного пристрастными, говорящими больше об авторе, чем о юморе. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание, – это особенно заметно, когда мы хохочем до слез. Для Чернышевского смех рождался из чувства превосходства (оттого-то мы так любим слушать анекдоты о начальстве, утомившись нашим превосходством над ним); для Фрейда – из подавленной агрессии (так что бойтесь разнеженного подтрунивания влюбленных или умильных улыбок пап и мам: их улыбки, обращенные к играющему младенцу, в любой миг могут обернуться оскалом). Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает – а пистолет-то оказывается игру шечным! Все помирают со смеху, но какой-нибудь умник только пожимает плечами: ничего смешного, глупость, и только – почему-то не всякое разрешение в ничто способно рассмешить.
Шопенгауэр был убежден, что остроумие умеет в совершенно ясных на первый взгляд словах найти неожиданный новый смысл. Здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им, – эта фраза вызывает представление о каком-то поле битвы; зато когда оказывается, что это надпись на могиле врача, мы смеемся, торжествуя над рассудком, нашим вечным и неотступным надсмотрщиком, претендующим на то, чтобы все понимать и выражать с исчерпывающей полнотой. Наименее интересный способ отыскания второго смысла – буквализация метафоры: вы говорите о ком-то: «Он в этом деле собаку съел», а остроумный собеседник поспешно интересуется: «A хвост оставил?» Еще более плоский прием – вылавливание омонимов: «По улице неслась собака». – «Несутся только куры» (в глубоко советскую эпоху этой конвейерной продукцией любил пробавляться журнал «Крокодил»). Людей, излишне поглощенных поисками таких, более чем поверхностных, вторых смыслов, известный психиатр П. Б. Ганнушкин называл салонными дебилами – не в ругательном, а в диагностирующем значении. И если исключить подобный (в больших дозах патологический) юмор, можно сказать, что остроумие по Шопенгауэру показывает нам недостаточность каждого описания, каждого суждения, оно напоминает нам, что мир гораздо богаче, чем это может выразить слово, – как мозаика не может в точности воспроизвести масляную живопись.
Бергсон развивает эту мысль еще дальше, доказывая, что юмор развенчивает не только стереотипное понимание той или иной фразы, но и всякую стереотипность, деятельность по неукоснительному алгоритму, без учета обстоятельств, всегда индивидуальных и неповторимых. Наиболее отчетливо эта схема проступает в примитивном юморе: вместо привычной еды положить в тарелку какой-нибудь дряни и хохотать, когда жертва машинально (уподобясь машине) начнет ее поглощать: юмор, можно сказать, наш внутренний луддит – он стремится уничтожить машину в человеке.
Более тонкий пример: если рядом с выразительно жестикулирующим оратором поставить другого, в точности повторяющего его движения, патетическое превратится в комическое – человеческая душа должна иметь неповторимые формы выражения. Смешной оказывается всякая предсказуемость, «серийность» (цель хорошей пародии – вскрыть «технологический прием»). Смех требует, чтобы люди не были серийными изделиями: еще Паскаль отмечал, что два совершенно одинаковых лица, появляясь перед нами одновременно, производят комическое впечатление. Неизменность физических законов, проступающая сквозь свободное парение человеческой души, тоже производит грубо комический эффект: человек, поскользнувшийся или чихнувший в патетический миг, у многих способен вызвать искренний хохот. Столь ненавистный Марине Цветаевой: «Когда человек падает, это НЕ СМЕШНО!» – на всю жизнь внушила она маленькой дочери, хохотавшей над неуклюжим клоуном.
Хороший карикатурист подчеркивает не какие попало физиономические особенности, но именно те, которые выглядят как проявления душевного настроя, – неизменные, а потому чаще всего неуместные: неизменно кислое, изумленное или веселое выражение лица, которое, как нам кажется, должно постоянно изменяться сообразно обстоятельствам.
Многие пародии создаются при помощи одного приема: стиль изложения механически переносится из одной сферы в другую, где он неуместен, – языком боевых реляций или коммерческих сделок рассказывают о свадьбе, драке, похоронах… Родственный прием – распространение какой-то привычной метафоры на непривычную область: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны» – привычно, «Советская власть – это коммунизм минус электрификация» – было довольно забавно, пока не затаскали, то есть не создали новую повторяемость.
Подобные приемы могут забавлять лишь до тех пор, пока мы не почувствовали и за серией острот их серийности, то есть тех самых повторяемости и предсказуемости, с которыми и борется юмор.
«Косное, застывшее, механическое в их противоположении гибкому, беспрерывно изменяющемуся, живому, рассеянность в противоположении вниманию, автоматизм в противоположении свободной воле – вот в общем то, что подчеркивает и хочет исправить смех» – такова конечная формула Бергсона. Для него (и для нас, для нас!) смешно все, что решено «раз и навсегда». Юмор не позволяет слишком долго следовать никакому предписанию, а потому не дает очень уж далеко заходить ни по пути порока, ни – увы! – по пути добродетели. Или не «увы»? Добродетель – это было любимое слово Робеспьера. Павел Васильевич Анненков отмечал, что в последние годы Гоголь утратил чувство юмора – регулятор, удерживающий от самоубийственных чрезмерностей. Бергсоновская догадка позволяет безо всякого фрейдизма объяснить, отчего излюбленными предметами расхожих шуток оказываются кишечно-половые отправления и действия правительства: любой запрет – а чем еще занимается правительство! – это один из тех неотвратимых и неизменных регулирующих механизмов, коих наша душа никогда не принимает до конца (в сущности, и смерть – частный случай неотвратимости, порождающей так называемый черный юмор).
Точно так же, зажатая принудительным благоговением, жизнь начинает ускользать на свободу при помощи кощунств, которые, не находя у людей сверхсовестливых ни малейшей отдушины, превращаются даже и в неврозы, навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся «хульными»: а что, если сейчас дернуть священника за бороду?.. А что, если бы с народного трибуна прямо на трибуне свалились штаны?..
В Средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения – «праздники дураков»; участники этих праздников защищались такой апологией: «Все мы, люди, – плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению Господу». Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку глупостью. Но не отказаться от нее.