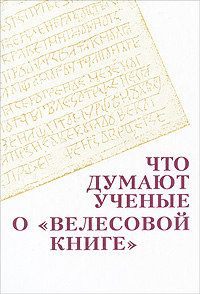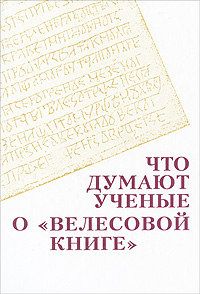Александр Мелихов - Былое и книги
Байрон отправлялся в Грецию со слезами, не скрывая уверенности, что совершает поступок как минимум неблагоразумный. Предчувствуя близкий конец, он просил позаботиться о трех живших в его дворце домашних гусях, к которым он очень привязался. В случае благополучного возвращения он намеревался написать одну эпическую и одну сатирическую поэму, в которой бы не пощадил никого, а прежде всего – себя. И греческая эпопея не поскупилась на материал.
«Не следует с чрезмерной дотошностью изучать народ, который мы намерены облагодетельствовать, не то – Бог свидетель – мы ничего доброго в этом мире не совершим». Главный романтик мировой литературы прекрасно отдавал себе отчет, что в основе великих дел лежат великие иллюзии. В «Кефалонском дневнике» Байрон сокрушался, что греки «чертовски лживы», тут же прибавляя, что это лишь следствие рабства (лицемерие лондонского света, очевидно, было следствием свободы). Слуга же Байрона вообще считал, что турки единственные порядочные люди в этой стране.
Сулиоты, которым Байрон посвятил нечто вроде гимна, требовали для рядовых офицерского жалования, менее гордый народишко попросту увиливал от неоплачиваемых трудов, тогда как сам Байрон расточал свою казну с королевской щедростью.
Было не так-то легко отличить повстанца от бандита и интернационалиста от авантюриста. Каждая из соперничающих клик норовила перетянуть чудаковатого англичанина – денежный мешок – на свою сторону. Одновременно распространялись слухи, в которых Байрон представал то рукой Стамбула, то рукой Лондона. Но этот капризный неврастеник, для которого простая невнимательность друга оборачивалась предательством, проявлял такие чудеса терпения и практичности, что приводил в изумление профессиональных военных, не догадывавшихся, что источником его прагматизма был романтизм, ощущение великой исторической миссии.
Скрывая отчаяние, он сидел на солдатском пайке, ни разу не уклонился от скучнейших учений под бесконечным дождем, превращающим жалкий поселок в непроходимое болото, – тогда-то с ним и случился первый в его жизни припадок священной эпилепсии. Но проклятия от него слышали только по адресу поборников человеколюбия и прогресса, этого несносного племени позеров и брехунов. Он понимал, что Греция обречена: Священному союзу было хорошо известно, что любые нововведения легче начать, чем остановить, а Российская и Австрийская империи держали «под пятой» ничуть не меньше народов, чем Османская (о британских колониях из деликатности умолчим). У восставших же не было шансов выстоять против регулярной армии без вмешательства европейских держав. А их Священный союз намекал даже на тайную связь смутьянов национальных со смутьянами социальными.
Но героический пессимист держался на избранном посту, как стойкий оловянный солдатик. Однажды из чисто спартанского принципа он провел полчаса в лодке под неиссякаемым ливнем, подхватил лихорадку и скончался в этой дыре из дыр среди, выражаясь по-гречески, полного хаоса, или, выражаясь по-русски, полного бардака. Отдавши жизнь бессмыслице.
Однако внезапная смерть великого поэта в рядах греческих повстанцев вызвала такое потрясение общественного мнения, которое перевернуло всю европейскую политику. И турки были изгнаны!
Рано или поздно романтики всегда берут верх над расчетливыми прагматиками. Байроновский призыв «Смерть в Победу обращать» предстал не поэтической высокопарностью, но могучим средством реальной политики.
Почетная капитуляция
На школьных вечерах худсамодеятельности, особенно на фоне стихов, воспринимаемых как неизбежное зло, неизвестно за какие грехи свалившееся на нашу голову, уморительный Чехов всегда принимался триумфально: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия»…
Но однажды в студенческом общежитии без малого в осьмнадцать лет мне открылась совсем не забавная «Скучная история», и я обомлел от еще невиданного сдержанного благородства и непонятно откуда берущейся красоты, которую я сегодня назвал бы скорее поэзией. И к тому времени, как мне и самому потихоньку стала являться муза, я уже боготворил грустного интеллигента в пенсне до такой степени, что его творчество мне представлялось просто-напросто «концом литературы». Мне казалось, искать больше нечего – не нужны ни исключительные события, ни великие характеры, весь драматизм жизни можно передать, не выходя из обыденности, не прибегая ни к стилистической напряженности, ни к масштабной философии: только сдержанность, только подтекст…
Саркастические замечания других великих по адресу Чехова отскакивали от меня как от стенки горох. Ну заметил Толстой в дневнике, что превосходство Чехова над его героями мнимое, ему открыто не больше, чем им, – так и что? Чехов открыл главное: в мире нет мелочей, все на свете наполняется значительностью, стоит в него вглядеться и рассказать точным и аскетичным чеховским языком. И в ту романтическую пору, когда молодежь торчала на подтекстах Хемингуэя, обнаруживая, что самый пустяковый диалог наполняется таинственной глубиной, если его поместить в прозу, равно как глубоким намеком неизвестно на что становится любой предмет или даже пятно, если его заключить в раму, – для меня это было лишь отголоском Чехова. (Но сам-то Хемингуэй, назвавший Чехова умным доктором, ни о каких его подтекстах не заикнулся. Может быть, в переводе они были не так заметны?)
На Толстого, конечно, было невозможно смотреть свысока, но утонченные натуры Серебряного века вызывали именно снисходительное отношение – на кого вздумали замахнуться, бедняги!.. Инвективы Иннокентия Анненского я читал с некоторым даже сочувствием к их автору: и неужто же русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника! Чехов, по Анненскому, еще и ничего не любил, кроме парного молока и мармелада… Ахматова же с ее неукоснительной царственностью вызывала скорее раздражение, умеряемое опять-таки снисхождением к дамской инфантильности, – мир Чехова-де сер и скучен, в нем не сияет солнце, не звенят мечи, – в детстве мне и самому больше нравился Вальтер Скотт с бесчисленными мечами, но взрослые-то люди должны понимать: откуда в нашем сегодняшнем мире, в нашем северном климате какие-то мечи, какое-то особенное солнце?..
В ту пору мне были не нужны ни солнце, ни мечи, потому что я в опьянении юношескими химерами и без того постоянно пребывал среди сверкания и звона. Толстой, Достоевский слишком потрясали, пробуждали слишком много чувств и мыслей, чтобы можно было под них элегически погрустить. Мой любимый Паустовский раскрывал мир как прекрасное романтическое приключение – каким он мне и представлялся. А вот посетовать на скуку и мизерность бытия, когда тебе практически неизвестно, что такое скука и ты ни минуты не ощущаешь себя мизерным, – такое утонченное кокетство бывало очень даже сладостным! Да, да, упоение чеховской грустью было самым настоящим кокетством: приятно слушать вьюгу, сидя в тепле.
Зато, когда с приближением старости чувство бренности всего земного начинает преследовать всерьез, тут становится уже не до кокетства. Когда чувство ничтожности современного бытия подступает вплотную, за Чеховым уже не укроешься – тут впору потянуться и к романтическим мечам, сверкающим под полуденным солнцем…
Проще выражаясь, Чехов в моих глазах перестал справляться с экзистенциальной защитой, защитой человека от ощущения собственной мизерности и мимолетности, что, как я теперь считаю, составляет первейшую обязанность искусства. Да, конечно, он нам соболезнует, этот добрый доктор Айболит, он грустит вместе с нами, он осуждает наших обидчиков – но ведь даже самый безнадежный больной сочувствию медперсонала предпочел бы лекарство! Точно так и я с некоторых пор начал предпочитать книги, пробуждающие во мне гордость и бесстрашие, а не грустное бессилие. «Хаджи-Мурат», «Старик и море», а не «Скучная история» или «Черный монах». С тех примерно пор у меня и начал оттачиваться зуб на Чехова – слишком уж долго он заслонял мне небосвод. И невольно уводил меня от масштабных событий к будничным мелочам, как будто вся поэзия и вся жестокость мира сосредоточена в повседневности. Вместо того чтобы раскалять ее на художественной сковороде, как это делает, скажем, Фолкнер.
Но – возражают страстные почитатели Чехова – изображая будничную, почти незаметную постороннему глазу жестокость, Чехов пробуждает отвращение к самовлюбленному эгоизму – кто-то, может быть, взглянет на себя построже, прочитав, скажем, типично чеховский рассказ «Княгиня». Молодая женщина, ощущающая себя трогательной птичкой, оскорбляет и притесняет всех кругом, а когда обиженный ею доктор кое-какую горькую правду высказывает ей в лицо, она лишь прячется в слезы – можно надеяться, что, увидев себя в этом зеркале, мир сделается добрее.