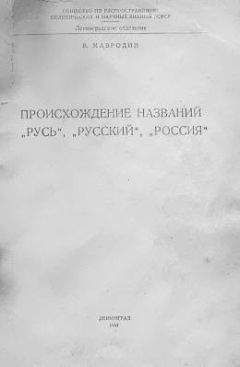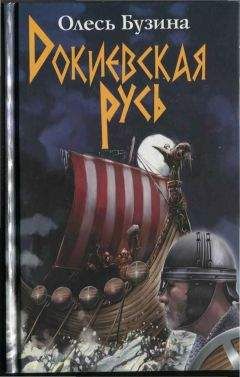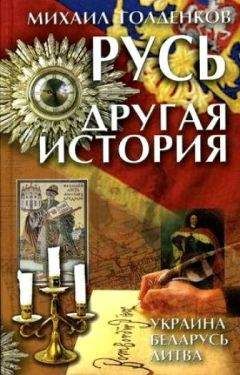Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
К Тардье приходит нестесненность, свобода. Он стремится теперь не столько остановить мгновение, сколько уловить с помощью слов идущее, несмотря ни на что, обновление, приобщиться к нему, ускорить. «Повержены боги, вокруг мертвецы, мутные воды, спаленные цветы. Плечом против ветра. Шаги через силу вперед. Не удерживайте меня! Что-то начинается. Что-то смолкает, образуется и поджидает меня». Прежний сторонний созерцатель, взиравший на окружающее не без затаенных опасений, отныне предпочитает внести свою лепту в происходящее. Посреди хмурой непогоды он упорно нащупывает то, что достойно заботы, что необходимо уберечь и выпестовать, – и в этом найти залог собственного возмужания, духовного распрямления.
Собрав свои патриотические стихи воен ной поры в книге «За душенные боги» (1946), Тардье в последующие годы редко возвращал ся к гражданской лирике как таковой. Одна ко толчок, полученный его мыслью, когда она впрямую соприкоснулась с бедой и подвигом родины, не прошел бесследно. Раскованность, доверие к жизни, запас сопротивляемости всему, что опошляет, уродует личность, через несколько лет, когда Тардье уже приближался к рубежу пятидесятилетия, привели его, в частности, на «перекресток лирики и бурлеска». В 1951 г. он вы пустил книжку «Мёсье Мёсье», имевшую успех даже в тех кругах, где стихи обычно не жалу ют, – успех, сопоставимый разве что со славой во Франции Жака Превера и Раймона Кено. Нагромождение благоглупостей, изрекаемых и проделываемых на страницах этой книги двумя глубокомысленными тупицами, которые являют собой две шутовские ипостаси одного и того же ударившегося в философию обывателя, поначалу выглядит каламбурами, пародийно вывернутыми наизнанку речевыми клише, сведением напыщенных языковых оборотов к их плоской буквальной основе, игрой совершенно пустопорожних прописей, достойных, пожалуй, и само го Козьмы Пруткова. Но понемногу, вдумываясь в эту веселую издевку над важно насупившим брови пустословием и суемудрием, когда оно запутывается в опровержении чуши еще большей околесицей, нетрудно различить, как сквозь легкое задорное подтрунивание проступает вполне серьезный замы сел. Он обозначается все зримее по мере того как Тардье, вслед за клоунской парой недотеп, изрекающих прописи само довольной логистики, выводит на подмостки своего кукольного балагана разномастную вереницу их собратьев и соперников по праздномыслию. Мишень Жана Тардье, который и здесь, и в своих радиопьесах или скетчах для камерной сцены прокладывал дорогу театру раннего Ионеско, – залогизированное до крайности, до чудовищной путаницы и вопиющей ахинеи плоское здравомыслие вместе с обслуживающим его опустошенным языком:
Жан Тардье. 1956
В сгустившейся тишине,
где слов не слышно совсем,
Мёсье говорит с Мёсье,
словно Никто с Никем.
– Мёсье, когда смерть придет
и каждый из нас умрет,
похоже будет тогда,
что не было нас никогда:
едва я уйду без возврата,
кто скажет, что жил я когда-то?
– Мёсье, – отвечает Мёсье, –
вы правы, и тем не менее
кто скажет, я есть или нет
сейчас и в любое мгновение?
Так быстро время уходит,
что я, когда рассуждаю
(глагол в настоящем времени,
изъявительное наклонение),
я, право, не тот уж, кем был
в предшествующее мгновение.
Прошедшее время тоже
сюда подойти не может.
Здесь нужно, чувствую я,
наклонение небытия.
– Согласен, – Мёсье говорит, –
и в наклонении этом
о жизни своей поведу я рассказ,
о жизни обоих нас:
мы не рождались,
не подрастали,
не увлекались,
не ели, не спали,
мы не любили
и не мечтали…
Мы с вами никто!
И мы ничего
не видели и не знали.
Философические мещане у Тардье берутся облагодетельствовать друг друга и всех прочих смертных сообщением самых что ни на есть «конечных», исчерпывающих и непререкаемых «истин». И в результате, вскарабкавшись на очередные кручи пустопорожнего умничанья, всякий раз срываются и попадают впросак. А вместе с ними и весьма высоколобая философистика, чьи непомерные домогательства на свой балаганно-кукольный лад перенимают пыжащиеся паяцы, воз жаждав прослыть мудрецами и напуская тумана шаманских откровений. Под обстрелом пародии оказывается культура, кичливо упоенная сверхизощренностью своего рассудка, та, которой и сам Тардье в прошлом отдал изрядную дань. И по тому учиненная им теперь саркастическая проверка ее на жизненность есть вместе с тем и самоочищение, попытка выбраться из завалов книжности к прозрачным родникам не посредственного.
Расправа с помощью смеха над тем, чему бездумно покло няются многие вокруг и чему он когда-то поклонялся сам, знаменовала собой озорной прощальный кивок Тардье в сторону былого: однажды уже расшатанное трагической встряской, оно теперь удостоено шутовского погребения. Конец заносчивому высокомерию духа, под маской гордыни скрывавшего свою собственную житейскую хрупкость, растерянность, повсюду подозревавшего неведомые каверзы. В поздних поэтических книгах Тардье («Безличный голос», 1954; «Безвестные истории», 1961; «Слово для другого», 1971) прочно утверждается просветленное душевное равновесие, давшееся нелегкой ценой и тем заботливее оберегаемое. Тут нет умильного благолепия, но есть приязненная открытость к жизни.
Близ лица твоего я бродил, –
сеть каналов, дворцы, тополя, –
языком облаков и могил
говорил ты. Я слушал тебя.
Я бродил близ твоих берегов,
ты был только улыбкой и сном,
и давали мечте моей кров
твои скалы, и руки, и гром.
……………………………………
Я под шепот твой тихий уснул,
пели люди и птицы вдали…
Мера жизни, стихающий гул,
и молчанье, и запах земли.
У Тардье всегда был дар за назойливым, раскатистым грохотом дней расслышать тихие шорохи, едва внятную при глушенную музыку, слабые шумы жизни. Отклик на это негромкое многоголосье, не утратив свежести, с годами обрел ровное спокойствие, отзывчивую доброжелательность.
Эпос, подправленный афоризмом
Пьер Эмманюэль
Почти утраченные было после Гюго навыки и секреты громового витийства как испытанного с давних пор во Франции орудия гражданского лиризма заново восстанавливались в годы патриотического Сопротивления стараниями многих. Совсем еще недавно заявивший о себе Пьер Эмманюэль (1916–1984) был среди них одним из первых и наиболее преуспевших.
В своих воззрениях, культуре мысли и письма, обширной эссеистике Эмманюэль прежде всего – верующий христианин (действительную свою фамилию Матьё, глухо напоминающую о евангелисте Матфее, он недаром сменил на библейское имя с раскрытой у Матфея же этимологией: «с нами Бог»). И это не наивное богопочитание, а богословски под кованное верование выпускника иезуитского коллежа, уже там пристрастившегося к философии и приученного, по его словам, естественным в устах всех взращенных на рационализме учения св. Фомы, «отождествлять речь и разум».
В подполье времен гитлеровского хозяйничанья во Фран ции еще совсем молодой Эмманюэль прославился как страстный певец порабощенной и сражающейся родины, соратник Элюара и Арагона. Клеймящая и призывная, проклинающая и пророческая, лирика Эмманюэля тех лет (сводная ее книга «Свобода нас ведет» вышла в 1945 г.) воскрешала национальную традицию упорядоченного в своих периодах стихотворческого красноречия и была по-ветхозаветному воинствующей проповедью патриотического свободолюбия:
Коленопреклоненный, я свободен.
Я прям и прав в плаще из праха мертвых,
Возлюблен Богом. Омываю руки,
И мною жив, и мной еще свободен
Мир, Богом данный мне затем, чтоб я в нем жил,
Мир без лица, без звука, чьим я стану
Лицом и песней, ибо я свободен
И мой творящий взгляд ничто не сломит.
……………………………………………
О братья мои в тюрьмах, вы свободны,
Свободны с обожженными глазами,
Закованные в цепи, вы свободны,
Свободны искалеченные лица,
Искусанные губы, вы свободны.
Вы – те деревья, что растут пышнее,
Измучены безжалостной обрезкой,
Вы – край предначертаний человечьих,
И человечный взгляд ваш беспределен,
И ваша тишина страшна для мира.
Превыше хриплой немоты тиранов
Есть молчаливый купол ваших рук.
Музыка небесных сфер и раскаты «Марсельезы» сливались тогда у Эмманюэля в грозном набате, а молитвы Всевышнему возносились о даровании победы праведным мстителям в битве за отчизну и ниспослании беспощадной кары палачам-чужеземцам. Песнь мертвых была хвалой подвигу великомучеников: