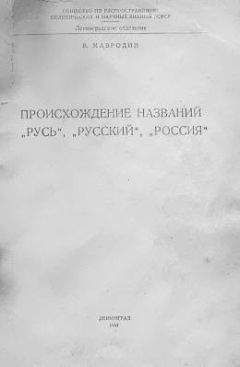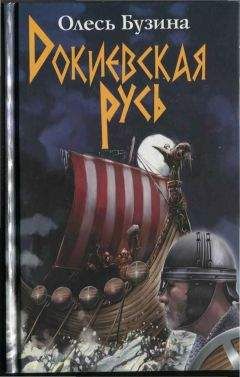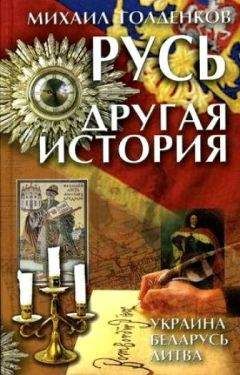Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Андре Френо. Рисунок Жана Базена. 1968
Первые же пробы углубиться в написанное Френо подкрепляют впечатление, выносимое из знакомства с ним самим[100]. Часто его причисляли к певцам «метафизического приключения» личности, но раздумье о бытийном без малейших натяжек сопрягается у него с чуткой приглядкой к вещам житейски-обыденным и скромной душевностью признаний. Как когда-то у анжуйца XVI в. Дю Белле, для которого Франция – это достойная гордости держава и вместе с тем милый сердцу ручей у дома детства, так в середине XX столетия у бургундца Френо родина – это древняя земля, где все хранит память о славной и бурной отечественной истории, и в то же самое время неказистая парижская улочка или уголок в деревенской глуши:
Я почти не в разладе с тем, что любил:
я впустил в мое сердце родную страну
и постиг ее прошлое… Гнев мой утих.
Я сегодня хочу, я сегодня дерзаю.
………………………………………
И неведомой речи понятен мне смысл,
и деревья глядят на меня дружелюбно,
и, себя познавая, я чувствую связь
и с моею страною и с этой округой,
где навстречу выходят ко мне деревушки,
кричат петухи, опереньем пылая,
и стены надежны, и пахнет вербеной,
по склонам ползут виноградные лозы,
и падают тени от облаков
на долины, где злаки желтеют.
При всей полновесности интеллектуального затекста, каким бывают нагружены стихи Френо, приглашающие к напряженной мыслительной работе, в них нет и следа сугубо головной логистики: искушенный аналитик, умеющий при случае «расщепить волосок на четыре части», он сердечен, непосредствен, а то и порывист. Выстраданная суровость его миропонимания не подорвала в нем ни тяги к нежности, ни искренне го сочувствия к чужим горестям, ни умения радоваться малому. Наитие, лирическая ворожба чужды его письму – как искусный каменщик, он усердно, неспешно и добротно трудится, возводя прочные постройки из слов так, чтобы природные возможности материала использовались сполна. Здесь каждая строка подогнана к остальным плотно, заподлицо. Умело очищенные от излишеств – хотя подчас и образующие обширные построения, где простор и для плавного, неторопливого рассказа, и для дробной, нервной скороговорки, – они не несут, однако, отпечатка языкового аскетизма. Философский азот входит непременной составной частью в воздух бесхитростной исповеди Френо; мгновенное, удерживая свою осязаемую однократную неповторимость, естественно мерится масштабом Судьбы.
Есть своя неслучайность в том, что Френо, с его трагическими умонастроениями и вместе с тем с его моралью жизнестойкости, в полный голос заговорил в годы войны и Сопротивления: историческая катастрофа, разительно подтвердив тогда в глазах многих «неблагоустройство» сущего, одновременно предрасположила застигнутых ею к напряженной духовной работе по изысканию ценностных опор для личности взамен ушедшей вдруг из-под ног почвы. Френо довелось взглянуть в лицо уже не философической истине смертного удела, а бродящей где-то совсем поблизости физической смерти. Призванный в армию в 1939 г., он побывал в окопах «странной войны», потом узнал позор разгрома Франции, попал в плен, был заключен в солдатский лагерь, бежал оттуда с подложными документами, на родине примкнул к патриотическому Сопротивлению. Мужество мыслителя, испытанное на жизненную прочность, сделалось мужеством подпольщика. Еще в лагере Френо закончил помимо коротких лирических зарисовок (кое-что из них было отобрано Элюаром для «Чести поэтов», а позже все они объединены Френо в цикл «Гражданские стихи» и затем вошли в его книгу «Святой лик», 1968) поэмы «Волхвы» и «Жалоба волхва». Они были напечатаны нелегально в 1943 г., сразу же поставив его в первый ряд певцов взявшейся за оружие Франции.
Хроника злободневного сегодня в этих философских лироэпических поэмах глубокого дыхания отступает, как когда-то у Виньи, как у близких Френо мыслителей-писателей Камю в «Чуме» или у Сартра в «Мухах», перед заимствованной легендой, в других случаях – перед вымышленной притчей. Лично пережитое преображено здесь в остранняющий миф, призванный запечатлеть не обремененную подробностями выжимку того, что уловлено в обыденности тех недобрых и героических лет. И извлечь в очищенном виде нравственную заповедь назначения и долга человека, который не соглашается с уготованной ему долей, даже если вызов обстоятельствам связан со смертельной опасностью.
Иносказание подобного рода отнюдь не было уходом от прямого разговора о злобе дня: соотечественники Френо без ошибочно узнавали самих себя во встречавшейся им на страницах его книг фигуре сурового путника, упрямо движущегося вперед сквозь непогоду и мглу. Он спотыкается и вновь распрямляется; расстается с милыми сердцу обольщениями и все же не теряет воли идти дальше. Приблизившись к очередному верстовому столбу, он обнаруживает, что впереди опять долгий изнурительный переход, которому, быть может, и вовсе не будет конца. Но усталый искатель все равно завтра отправится навстречу мигающей где-то вдали звезде. Такова у Френо «безумная странница», бродящая по оскверненному пепелищу, – в ней без труда опознается мать-Франция («Женщина потерянных дорог»). Таковы паломники-волхвы, пустившиеся однажды в дорогу, чтобы поклониться новорожденному Христу. Однако пережив свершение своих упований и снова ощутив пустоту в душе, они опять устремляются на поиски земли обетованной, лучезарного града, который всегда где-то в тридевятом царстве.
Чем бы ни манил свет дальней звезды – освобождением, восторгом или забвением, Френо никому не сулил ни послед них бесспорных побед, ни блаженных островов, причалив к которым уже некуда рваться и незачем продолжать поиски. Да и там ли, в дальних далях, настоящий источник света, или это возвращается отраженным луч, исходящий из самого человека, который и есть тогда доподлинный «светоносец»? Так или иначе, но казавшееся вчера пределом мечтаний завтра остается позади, и только одно безусловно – лента теряющейся где-то в бесконечности дороги, и на ней упорно шагающий путник. Лишь вместе с его шагами оборвется и самый путь:
К далеким пределам,
к которым стремился,
иду наугад.
………………………………
Из сил выбиваясь,
теряя дыханье,
ступень за ступенью,
как зверь в темноте.
В лучах фонарей
исчезают фигуры,
сверкают приманки
неведомых празднеств,
и власть постоянна
самообмана,
и холод все злее,
и путь все трудней.
В блестящей толпе
улыбок пустыня,
песок в моем горле,
и падают птицы,
и время раскрыло
ловушки свои.
С дороги сбиваясь,
иду, возвращаюсь
к далеким пределам,
которых достигну,
когда все вокруг
погрузится во тьму.
Значит, нам от века суждено довольствоваться краткими привалами, и единственный дарованный нам полный отдых – растворение в пустоте, в «ничто»? Значит, неизменна верени ца побед-поражений, в какую вовлечены все путешествующие среди бездорожья у Френо? Блуждающие по белому свету рыцари мистической невесты в поэме «Черное бракосочетание» (1946), гонимые по разоренной земле беспокойством и неутолимой жаждой преклонить колена у пригрезившегося воплощения всех совершенств женственности, только по видимости непохожи на своих духовных двойников – пахарей из поэмы «Крестьяне» (1951), которым неведомо стремление вырваться из чреды трудов и дней, заведенной искони, зато очень знакомо удовлетворение от исполненного долга: «по ка не наступит кладбищенский мрак», «боль побороть, превратив ее в мирную быль». Бесприютность во вселенной и принудительная включенность в ее материальный круговорот для Френо взаимозаменяемы и взаимодополняющи. Они являют собой две ипостаси одной и той же жизненной трагедии, состоящей в том, «чтобы искать нечто возвышающееся над нами, равно как и положенное в наше основание – и никогда не находить».
«Рая нет, есть небытие», – возразил Френо как-то англичанину Дилану Томасу, мечтавшему «услышать музыку небесных сфер», а одна из сводных книг лирики Френо так и названа – «Рая нет» (1962). Нет ни позади, ни впереди, нет ни в небесах, ни на земле, где каждый из нас, неизменно и напрасно ожидая, что выпавшая ему на долю мимолетная радость окажется вечным блаженством, вынужден покрывать отпущенное ему расстояние от колыбели до могилы, так и не сподобившись полноты счастья и даже по-настоящему не узнав, «кто же владеет чем» из этих ускользающих даров жизни:
Кто и чем за оградою этой владеет?
Кому принадлежат расчлененные склоны горы,
терпеливые стены, желтые злаки, плоды на деревьях?
И разве твое это все: дом и сад,
водоем с драгоценной водою,
ребенок, играющий в мяч на лужайке?
Кто сможет их удержать,
эти стены, которые рушатся,
это наследство, что будет поделено,
эти колодцы, в которых иссякнет вода?
Кто угасшего рода прочтет имена
среди мха позабытых могил?
Ну, а скалы, а ветер, а смерть – чьи они?
Свобода от опеки свыше внушает Френо горделивое чувство самостоятельности: «Я человек, достойный жизни, – я отверг руку богов». И вместе с тем имеет для него и свою из нанку – усугубляя ощущение покинутости во вселенной, она вновь и вновь подсказывает этому «хозяину без владений» его сумрачные думы и слова «не-надежды». У Френо на разные лады перемежают друг друга благословения приютившему его земному дому, где довелось отведать свою толику хлеба гостеприимства, и жалобы на неизбывное изгнанничество; клятвы не отступиться от предписанного себе однажды правдоискательского долга – и плач об ущербной недолговечности смертных, обреченных «чистым нулем» истлеть в могильном безмолвии. Всех их снедают домогательства преодолеть, пусть на мгновение, заданный от века распорядок вещей, угрожающий им исчезновением, и припасть к жизнетворным родникам бурлящей где-то в потаенных глубинах мироздания вечной свежести. Но когда окрыляющая «встреча с чудом» вдруг происходит, она кратковременна и неминуемо влечет за собой растраву прощания: в утеху – и насмешку – недавнему счастливцу остается лишь пепел угасающих с каждым мигом воспоминаний. Всегдашний узник всемогущего небытия, затерянный где-то между меркнущим пережитым и манящим ожидаемым, он вынужден довольствоваться толь ко «смехотворными завоеваниями» – тленными крохами, вырванными у чересчур скупого к нему бытия. Столь частое у Френо уподобление жизни ветру настояно на горечи ничуть не меньше, чем на благодарности: