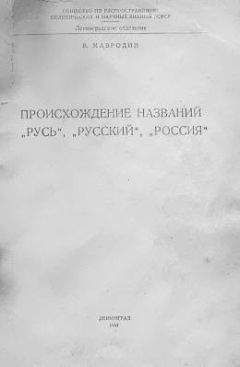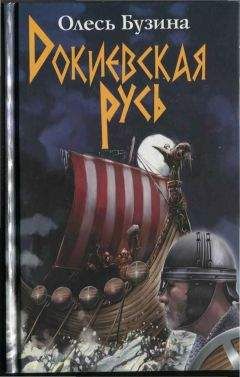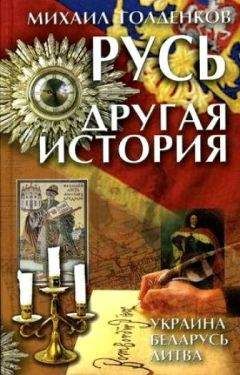Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Свет был изгнан из наших очей. Он у нас затаился в костях. Мы, в свой черед, из костей изгоняем его, чтобы вернуть ему прежний венец.
«Листки Гипноса»Волею исторических судеб очутившись в годы иноземного нашествия и подполья «ближе к зловещему, чем набатный колокол», Шар считал самым неотложным делом «вырабатывать мораль здоровья бедственной поры». Корень этой жизнестойкой нравственности, возводимой в степень неколебимого завета и тогда, когда потрясения уже позади или только маячат впереди, – решительное, в себе обретающее все нужное, мужественное несогласие подчиниться открытому раз гулу или скрытому подкопу беды. Самоочевидный долг чело века перед собой и перед людьми в том, что ему не пристало довольствоваться уделом жертвы, лишь претерпевающей удары злосчастья, а следует встречать их лицом к лицу, достойно выдерживать и обороняться.
Оспаривающий навязанную ему участь жить в историческую непогоду, Шар вновь и вновь упрямо тянется к воль ной весенней шири. Не слишком обольщаясь ожиданиями конечного, раз и навсегда завоеванного успеха, он ставит на благоприятное промежуточное исполнение страстно чаемого. Он рассчитывает совпасть в своем непокорстве с другими, сделавшими тот же выбор, да и с подспудным движением самих вещей. И пусть при такой гребле против поверхностного течения в надежде на глубинные струи он не защищен ни от срывов, ни от ударов, пусть бывает скован из-за гнездящихся в сердце догадок об отчаянной ненадежности предстоящего, он преисполнен воли бросить якорь «в почве грядущего, уповая на ее созвучность», и утешен тем, что в жизни, где ничем не омраченное блаженство – химера, просто счастье дается-таки иной раз в руки:
Покровительство звезд проявляется в том, что они приглашают нас к разговору и дают почувствовать, что мы в этом мире не одиноки, что у нас есть крыша над головой, а над огнем в моем очаге – твои руки.
«Родословная веры»Строго говоря, соседство трагедии и оптимизма, «абсурда» и надежды у Шара – парадокс, не делающий его философски вполне последовательным. Но это добрая непоследовательность лирика, оглядывающегося не на одно умозрение. Проверенная на себе в дни патриотического подполья мужественная вера в то, что и посреди суровых испытаний воз можно «исцелить хлеб, приветить вино», что враждебные обстоятельства подлежат и порой поддаются преодолению, мудро подправляет исходную убежденность Шара в хмуром недоброжелательстве судьбы. «Мы можем жить лишь в приоткрытости, как раз на той трудноразличимой меже, что отделяет тень от света. Но мы неудержимо вброшены вперед. И все наше существо спешит на помощь этому головокружительному рывку».
Сердцевиной сполохов «темной ясности» у Шара, душой и его жизнечувствия, и мастерства служит древняя, хотя никогда не ветшающая истина – вечный выход за пределы налично данного, приращение достигнутого, вторжение умом и делом в неосвоенное есть самая предпочтительная правда нашей доли и долга на земле.
Раскованное доверие
Вподготовленной и подпольно выпущенной Элюаром в мае 1943 г. патриотической антологии «Честь поэтов», которая, хоть и передавалась тайком из рук в руки, получила тогда во Франции хождение гораздо более широкое, чем и самые удачливые поэтические книжки в межвоенную пору, все стихи ради осторожности были подписаны псевдонима ми. Иной раз, правда, знатокам ничего не стоило опознать перо Арагона, или Элюара, или кого-нибудь еще из мастеров, давно снискавших успех. Раскрыть другие имена было куда сложнее – многие были если не вовсе безвестны, то и не на столько еще запомнились, чтобы по приметам письма сразу догадаться об авторстве. И уж во всяком случае то был пер вый выход за пределы узкого круга посвященных для ряда сотрудников Элюара по спасению чести певцов поверженной и непокорившейся родины. Год с небольшим спустя, после освобождения Парижа, действительные их имена были с почетом произнесены вслух: Тардье, Френо, Эмманюэль, Понж, Гильвик… Разные по возрасту, они придерживались разных взглядов и по-разному работали со словом. Но имен но им, прошедшим боевое крещение на страницах элюаровской книги, предстояло определять лицо очередного поколе ния французских поэтов – поэтов военного призыва и после военного признания.
Цена равновесия
Жан Тардье
В голосе Даниеля Терезена, открывавшего всю подборку в «Чести поэтов» и затем еще раз присутствовавшего в середине оглавления, мало что могло напомнить о Жане Тардье, которому принадлежал этот псевдоним. Подпольный лирик с гневной прямотой и гражданской страстью чеканил строки, складывавшиеся в заповедь-лозунг:
Раз мертвые не могут заговорить,
что могут узнать живые?
Раз мертвые жаловаться не умеют,
на кого и на что станут жаловаться живые?
Раз мертвые больше не могут молчать,
разве могут живые хранить молчанье?
Писавшееся Тардье прежде выглядело совсем иначе и имело совсем другой смысл:
У стиснутых зубов,
Над тайною сомкнутых,
Отбоя нет от слов,
Излюбленных и смутных.
С детства Тардье, сын живописца и музыкантши (он родился в 1903 г.), дышал воздухом культуры утонченно-изящной, обширной и сугубо книжной. Она окутывала и укутывала его, оберегала от столкновений со слишком острыми углами жизни. Но эта же привычная защищенность взращивала и невольное недоверие ко всему, что находится за пре делами столь знакомого тепличного уюта. В ранней лирике Тардье удивление миром всегда настороже, всегда бдительно себя сдерживает: колебания сопутствуют всякому утверждению, высказывание обременено изнутри сомнениями в себе и оттого зачастую выстраивается в цепочки парадоксальных околичностей:
Я слушаю – и не слышу,
смотрю – и не вижу света,
встает над моею крышей
солнце черного цвета.
Я умер, не умирая,
живу, лишенный движенья.
Надежда моя, сгорая,
исчезла в печи мгновенья.
Конец? Пусть так! Но начнется
все снова… Забудешь о многом,
но помни: мир познается
по стертым его дорогам.
Смолоду умелый мастер, Тардье рисует себе жизнь «скрытой рекой» (так назывался первый его сборничек, вышедший в 1933 г.): после вольных разливов в долинах она уходит куда-то в глубь земли, под скалы, скрывается в бездне ущелий, пряча свои загадки. Разрыв между обжитой, одомашненной областью, где все привычно, и своевольной текучестью реки жизни – угрожающе непонятным, коварным ходом вещей – дает себя знать зачастую исподволь, окольно. Но от этого не менее напряженно.
Как много приказов! Исходят они отовсюду.
Солнце? – Ладонью глаза прикрывай!
Дождь? – Голову в плечи втяни!
Любовь на пороге? – Вниманье!
И вдруг мертвецы преграждают дорогу.
…………………………………………………
Непрочность – вот мой покой, который так ненадежен.
Зыбкая ненадежность сущего настораживает Тардье всерьез, рождает стремление воздвигнуть для себя прочное убежище, сработанное из подручного и вполне им освоенного материала – слов, строк, их сочетаний. Строительство укреплений из языковых кирпичиков вынуждает быть пре дельно, до чрезмерности собранным, крайне осмотрительным в подгонке и обеспечении прочности каждого перекрытия, всей облицовки. В том, как предвоенный Тардье в книгах «Ударения» (1939) и «Незримый свидетель» (вышла в 1943 г.) сооружает свой словесный оплот среди стихий, есть какая-то скованность: внутреннее содержательно-смысловое пространство этой обители по необходимости тесновато, камерно, а выходы старательно замурованы.
Однако от шквала, пронесшегося над Францией в 1940 г., рушились заслоны и покрепче. У Тардье достало му жества и чувства ответственности, чтобы, содрогнувшись, не впасть в отчаяние, твердо взглянуть в лицо случившемуся. И решиться на весьма существенную перестройку в представлениях о своем долге, в самом складе своих сочинений. Дело тут конечно, не просто в желании быть неузнанным, – сотрудничая в печати Сопротивления, Тардье оставался с семьей в захваченном врагом Париже. Суть даже и не в том, что недавний поэт для «избранных» заговорил теперь так, что был услышан множеством рядовых соотечественников. Важно прежде всего то, что действительные трагедии прямо вошли в лирику, были опознаны и обозначены. А тем самым они обрели отчетливо различимый облик и границы, перестали выглядеть всеохватывающими. И тогда делалось все очевиднее, что они преходящи, что вне их власти, вопреки невзгодам, поражениям, потерям, в самой толще жизни неук лонно крепнет нечто совсем иное – здоровое, созидающее, обнадеживающее. Холод и огонь, ужас и восторг, рождение и умирание – все то, что прежде раскалывалось, замерши у разнозаряженных полюсов, – втягивается, как и у Элюара тех лет, в русло движущегося вперед времени.