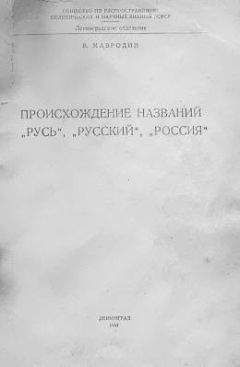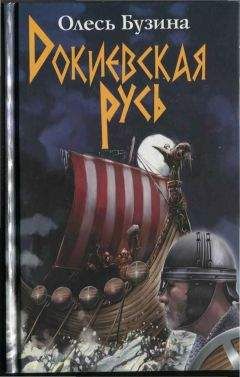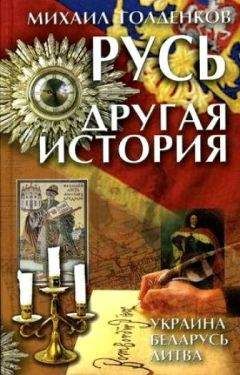Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Самодовольные «хозяева жизни», судейские, начальники разных мастей и званий, и шире – все то, что тяжким гнетом ложится на личность или вкрадчиво в нее проникает чувством неизъяснимой виноватости, мало-помалу обретает в воображении Мишо собирательный облик некоего вездесущего тирана – «Короля». «Случается так, что я часто попадаю под суд, – рассказывает Мишо об одном из самых навязчивых своих страхов, одолевающих его во сне и наяву. – И едва истец изложит свои притязания, как мой Король, не выслушав толком моих доводов, поддерживает жалобу противной стороны, и в его августейших устах она становится жутким перечнем преступлений, обвинительным приговором, который вот-вот обрушится на меня» («Мой Король»). Однако Мишо не склонен безропотно внимать кривосудию этого самозваного повелителя. Напротив, между ними не прекращается ожесточенная схватка. Подданный поносит своего владыку, осыпает его оплеухами, вступает с ним в рукопашную, осмеивает, беспрестанно над ним глумится. И хотя победа всякий раз ускользает, он не опускает рук, снова и снова возобновляя сражение. Мгновения усталости, когда неудержимо тянет закрыть глаза и раствориться в блаженной нирване, сменяются взрывами тираноборческой энергии, издевательского хохота. Мишо на свой лад принимает сторону вечного несогласия с навязанной ему долей барахтаться в потоке не доброго бытийного беспорядка. Он жаждет удела иного, отвечающего запросам человека в осмысленности мироустройства и собственной жизни. Он не шепчет покаянных молитв, не уступает наползающему абсурду, но вызывающе насмешничает или захлебывается в крике, до предела напрягая голосовые связки, дабы все на свете услышали вопль этого не покорившегося. Без вины виноватый не приемлет «королевского правосудия» и дерзает громко стучаться в двери вселенского «Закона».
Вечно заложник и вечно повстанец, Мишо всегда пребывал в колебаниях между робостью и упорством, грезой о блаженных островах и недоумением перед явью, слепотой и озаренностью, сердечной растравой и хрупкой надеждой, хладнокровной выдержкой и лихорадочной тревогой, упадком сил и отчаянным упованием. И застревал где-то на распутье, взыскуя добра и правды, к которым ему, быть может, не дано по-настоящему приблизиться. Саму эту недостижимость он растерянно провозглашал единственной правдой, добытой им в путешествии на край духовной ночи. Ночи, где он, придав ленный бременем своего смятенного сознания, был обречен маяться как судорожно вырывающийся узник этого липкого мрака, как бунтарь в ловушке.
«Постройки на молнии»
Рене Шар
Редко сколько-нибудь развернутое суждение о лирике Рене Шара (родился в 1907 г.) обходится без обмолвок насчет ее «гераклитовой темноты», глухого «герметизма». Даже кичащиеся своей искушенностью знатоки, без коле баний ставя его в самый первый ряд мастеров слова сегод няшней Франции, нет-нет да и посетуют (впрочем, не без доли самодовольного упоения собственной посвященностью) на то, что Шар чересчур труден, понять его непросто – тут нужны и особые навыки, и владение ключом этих зашифрованных признаний.
А между тем внешне, в ладе его письма, не заметно ни исхищрений нарочитой усложненности, ни сумбурной невня тицы. В каждом случае все семь раз отмерено, крепко пригнано, тщательно огранено. Вещи упоминаются самые что ни на есть обычные. Да и слова обычны, из повседневного обихода, разве что взятого в его щедрой широте, – ни вытащенных из лексикографических запасников полузабытых или ученых речений, ни диковин дерзкого языкотворчества. Пред ложения – среди них изобилуют назывные, усеченные – прозрачны в своем строгом порядке. Словно чураясь прихотливых узоров, они лишь в исключительных случаях позволяют себе спуск по извилистой лестнице придаточных. Зато в них сплошь и рядом «зияния» – выпадения избыточного, хотя вроде бы привычного, прямо-таки напрашивающегося. Высказывание, а порой и целиком стихотворение – зачастую оно выполнено в прозе – тяготеет к сжатому до предела, пру жинящему афоризму, совершенному изделию «краткого искусства», как сам Шар определяет суть своих рабочих приемов.
Но как раз в этой приверженности к чрезвычайному лаконизму и кроются прежде всего предпосылки столь смущающей иногда «темноты» Шара. В жажде быть собранным он безудержен, не боится затруднить понимание периода, фразы, метафоры, выстроив их на пропуске промежуточных звеньев между исходной и конечной точкой мысли, так что «на выходе» она имеет перенапряженную до крайней крайности плотность разнонаправленного смыслоизлучения. Эл липтический стиль Шара можно, конечно, принимать или отвергать, можно счесть данью архаике, поклоном в сторону действительно почитаемого им древнегреческого мыслителя Гераклита или авангардистской эзотеричностью, тоже, впрочем, присутствующей. Однако в обоих случаях нельзя не при знать, что эта сгущенность не прихоть, у нее есть свое задание и свое оправдание.
Шар – один из самых истовых сегодняшних поборников той философии лирики во Франции, которая вот уже столетие, после Рембо, движима помыслами о «ясновидчестве». И побуждает тех, кто ее придерживается, сознавать себя ловцами «озарений» – сполохов таинственного «нечто», смутно и маняще мерцающего в бытийных пучинах за гранью уже освоенного, изведанного, непосредственно доступного. «Самые чистые урожаи, – гласит афоризм Шара, – зреют в почве несуществующего». Это пока несущее, но вероятное, возможное, желанное едва только забрезжило в дальней дали, еще толком не проклюнулось, но им чревато, испод воль набухает бытие: «Я люблю трепет голой яблоневой ветки в предчувствии листьев и плодов». И хотя воображение Шара настроено не на прыжок в царство произвольного вымысла, как у Рембо, а на опережающее предугадывание того, к чему устремляется сама действительность, тем не менее и для Шара лирик – это провидец, изыскатель:
Поторопись
Поторопись и передай
Тебе доставшуюся долю
Чудесного
И доброты и мятежа
Ты в самом деле можешь не поспеть за жизнью
Невыразимой жизнью
Единственной с которой ты согласен слиться
В которой ежедневно
Тебе отказывают существа и вещи
И от которой в беспощадной битве тебе то здесь то там
Урвать клочок-другой порою удается
А вне ее один лишь тлен.
На первых порах может показаться, будто выдвигающий такие цели вознамерился в наш трезвый просвещенный век заделаться кудесником-прорицателем. Но ведь напрашивается и другое, не менее близлежащее сопоставление, к которому прибег уже Аполлинер, – уподобление себя ученому. С той только разницей, что орудиями разведки в непостигнутом и несказáнном тут служат не лабораторные наблюдения и логико-аналитические выкладки, искомое знание не расщеплено по отраслям и не безлично. Соперник ученого – поэт берет свои пробы в изменчивом потоке жизни, куда и он сам все цело погружен, а добытое им обладает нерасчленимой сращенностью наблюдаемого и наблюдающего, житейски наличного и мыслимого, текучего и вечного, природного и духовно го, космического и личностного. И соответственно используется иной инструмент – мгновенные вспышки бодрствующего духа, который по наитию нащупывает и собирает «радужные капли чудесного», этот, по словам Шара, заставляющим вспомнить нашего Тютчева или немца Гёльдерлина, «урожай бездн».
Жатва столь необъятной нивы, очевидно, никак не может быть сплошной, а только выборочной. Она складывается из разрозненных ослепительных «звездных мигов», когда посреди «бездонных пропастей тьмы, пребывающих в постоянном колыхании», словно свершается таинство крещения чуткого разума в огневой купели – недрах вселенской жизни:
Засыпаю и вижу сверкание молний.
Пусть смешается с почвой, где спят мои корни,
Этот ветер огромный, в котором дрожу.
………………………………………………
Мне жилищем отныне – железный тот ключ,
Что огнем притворился в груди урагана,
Да взъерошенный воздух, когтист и колюч.
«Молния со всеми своими запасами девственности» – таково ключевое иносказательное обозначение самим Шаром его стихов-«озарений». Весьма на него непохожий, как раз обладающий даром мощного эпика Сен-Жон Перс был меток, когда сравнил Шара с зодчим, «возводящим свои постройки на молнии».
Молниеносность таких лирических вспышек и побуждает Шара всячески ужимать, уплотнять и без того тесное пространство своего письма так, чтобы пойманные на лету сгустки света были подобающе переданы в слове – не описаны, пересказаны, проанализированы в раздумье по их поводу, а прямо-таки явлены. Книги Шара выглядят архипелагообразными россыпями таких отвердевших светоносных крупиц, выхваченных из залежей сущего и рассеянных вразброс по страницам вроде бы без особой заботы о том, как они сочетаются друг с другом.